Лучшие вопросы
Таймлайн
Чат
Перспективы
Ефремов, Иван Антонович
русский советский писатель-фантаст, учёный-палеонтолог, создатель тафономии; философ-космист и социальный мыслитель (1908–1972) Из Википедии, свободной энциклопедии
Remove ads
Ива́н Анто́нович Ефре́мов (10 [23] апреля 1908 года, дер. Вырица, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя — 5 октября 1972 года, Москва, СССР) — советский палеонтолог, писатель-фантаст и социальный мыслитель.
Доктор биологических наук (1941), с 1930 по 1959 год — научный сотрудник Палеонтологического института, с 1937 года — заведующий лабораторией низших позвоночных. Лауреат Сталинской премии второй степени (1952, за монографию «Тафономия и геологическая летопись»). С именем Ефремова связывают три десятилетия развития советской палеонтологии позвоночных. Учёный считается одним из основоположников современной тафономии. Под его руководством экспедиция в пустыне Гоби (1946—1949) открыла ископаемые остатки динозавров, коллекции которых составляют золотой фонд московского Палеонтологического музея.
В романе-утопии «Туманность Андромеды» (1957) писатель представил масштабную картину коммунистического будущего ― мир Великого Кольца, содружества различных разумных цивилизаций. Роман выразил дух времени — «оттепель», энтузиазм в освоении космоса; ознаменовал начало «золотого века» советской фантастики. В антиутопии «Час Быка» (1968) показан негативный сценарий развития человечества. Иван Ефремов ― автор романов «Лезвие бритвы» (1963), «Таис Афинская» (1972), историко-приключенческих повестей и научно-фантастических рассказов. Его синтетическое мировоззрение, отмеченное влиянием разных идейных традиций, включало утопизм левого толка, эволюционизм, научный рационализм, эзотеризм и гуманизм.
Книги Ефремова стали знаковыми для нескольких поколений советских читателей, знакомили их с современной западной общественной мыслью, затрагивали запретные темы, включая эротизм и психоанализ. Взгляды Ефремова часто вызывали полемику. В советское время его творчество использовалось для легитимации коммунистических идей, а впоследствии становилось объектом различных идеологических манипуляций. К началу XXI века читательская аудитория писателя сократилась, хотя его книги регулярно переиздаются.
Remove ads
Происхождение и ранние годы
Суммиров вкратце
Перспектива
Согласно метрической книге Воскресенской церкви посёлка Суйда Царскосельского уезда[2], И. А. Ефремов родился 10 (23) апреля 1908 года[К 1], в советское время официальной датой его рождения считалось 9 (22) апреля 1907 года. В 1967 году в примечаниях к краткой автобиографии он писал, что, как и многие в 1920-е годы, прибавил «себе года», хотя не исключено, что его возраст определила медицинская комиссия[3].

Отец, Антип Харитонович Ефремов, купец 2-й гильдии, происходил из заволжских крестьян-староверов. Отслужив в Семёновском полку и проработав помощником казначея хозяйственного комитета Покровской общины, он начал своё дело в Вырице[4][5]. Антип поначалу арендовал Вырицкий лесопильный завод у семьи князей Витгенштейнов, а впоследствии создал собственное производство и занял видное положение среди местных земских деятелей и благотворителей. Женился он поздно, поставив крестьянке Варваре Александровне условие, что брак будет заключён после рождения наследника ― Иван стал законным сыном по решению суда 18 декабря 1910 года. Примерно в то время Антип Харитонович сменил имя на «Антон», что биографы связывают с его вхождением в петербургские деловые круги[6][7][8].
Ефремовы жили в просторном доме в Вырице, годом ранее Ивана родилась сестра Надежда, а брат Василий ― годом позже[9]. О своём детстве Ефремов говорить не любил, хотя оно вряд ли было трудным или несчастным[7]. Он вспоминал, что «…семья-то была самая что ни на есть обыкновенно мещанская, с жестоким деспотизмом отца, как то принято у староверов, внутренне глубочайше некультурная»[10][7], добавляя, что «революция была также и моим освобождением от мещанства»[10]. Его способности проявились достаточно рано: в четыре года он научился читать, в шесть — познакомился с творчеством Жюля Верна и полюбил книги о землепроходцах, мореплавателях и учёных. У отца была библиотека, и Иван стал первым её читателем. Большое впечатление произвели «Двадцать тысяч льё под водой», в библиотеках Бердянска и Херсона вслед за книгами Жюля Верна были прочитаны Хаггард, Уэллс, Конан Дойл, Рони-старший, Мелвилл, Джек Лондон, Конрад[11][12][13][14]. Ефремов вспоминал о детском пристрастии к тяжёлым вещам — к свинцовым часовым гирям, медным ступкам и утюгам, а также к минералам, особенно кристаллам[7].
Летом 1914 года Антон Харитонович отправил семью в Бердянск (врачи рекомендовали Василию южный климат), где Иван поступил в гимназию[15][16]. В 1917 году родители развелись, а в конце 1918 года мать с детьми перебралась в Херсон к родственнице, возможно, внебрачной дочери бывшего мужа. В 1919 году она вышла замуж за красного командира и уехала с ним, когда Красная армия летом ушла с Украины. Дети остались у родственницы, которая в конце года умерла от сыпного тифа. Этот период стал одним из наиболее драматичных в жизни Ефремова, ему пришлось испытать на себе политический хаос Гражданской войны. Трое детей оказались брошенными на произвол судьбы, зимой 1920 года им приходилось продавать вещи, чтобы выжить в условиях полной нищеты, голода и болезней. При бомбардировке Очакова Иван был контужен и с этого времени начал немного заикаться. Он прибился к автороте 6-й армии РККА, располагавшейся по соседству, помогал на автобазе. В автороте он освоил устройство автомобиля и вождение. Вместе с ротой «сыном полка» дошёл до Перекопа, а после расформирования роты был демобилизован в конце 1921 года. Узнав, что отец забрал брата и сестру из Херсона в Петроград, уехал вслед за ними с твёрдым намерением учиться[17][18][19].
Remove ads
Образование и начало научной карьеры
Суммиров вкратце
Перспектива

О школьном периоде жизни Ефремова известно мало: ни он сам, ни биографы не указывали, где именно он жил в Петрограде, общался ли с родственниками; в источниках имеются разночтения о времени окончания школы[20]. Писатель избегал вспоминать родителей, отношения с которыми, по всей видимости, характеризовались отчуждённостью, и охотно говорил об учителе математики В. А. Давыдове, академиках А. Борисяке и П. Сушкине. В очерке «Путь в науку» (1964) Ефремов писал, что «остался без родителей в возрасте двенадцати лет»[20]. По предложению Давыдова учился экстерном (два класса за один год) и отучился два с половиной года[К 2]. Учёбу пришлось совмещать с заработком на жизнь: Иван работал грузчиком (разгружал дрова из вагонов и выгружал с барж), пильщиком дров, помощником шофёра, шофёром. Последнюю работу пришлось оставить, чтобы сдать выпускные экзамены[23][24].
Юноша увлёкся наукой о вымерших животных, ещё в школе читал книги «Вымершие животные» Р. Ланкастера и «Превращения животного мира» Ш. Депере. Он обращался к профессору Горного института Н. Яковлеву (в 1922 году), тогдашнему президенту Русского палеонтологического общества, и к академику Борисяку. Судьбоносным стало знакомство в начале 1923 года с академиком Сушкиным — на Ивана произвела впечатление статья учёного о северодвинской пермской фауне, и он написал академику письмо. Однако вакансии в Геологическом музее, где Сушкин заведовал галереей, не было. В 1923 году Ефремов сдал экзамены на штурмана каботажного плавания при Петроградских мореходных классах и весной 1924 года по протекции капитана Д. Лухманова уехал на Дальний Восток. Будущий палеонтолог плавал матросом на судне у берегов Сахалина и по Охотскому морю[25][26]. Он вспоминал о тех временах, что только «врождённая сила и боксёрское умение» помогли ему отстоять «своё достоинство» в «компании со всякой шпаной»[27].

По рекомендации Сушкина в 1924 году Ефремов поступил на биологическое отделение физико-математического факультета ЛГУ, сначала — вольнослушателем, а через год — студентом[28][29]. В 1925 году у Сушкина освободилось место препаратора в Геологическом музее, и Иван стал научно-техническим сотрудником Академии наук. В том же году он успел отплавать на Каспии командиром гидрографического катера[30][31]. По свидетельствам очевидцев, до некоторой степени Сушкин был воспитателем юного Ефремова[32]. Его способности сразу заметили — академик В. Л. Комаров в рекомендательном письме для одной из его первых командировок писал: «Молодой человек — настоящий тип начинающего учёного»[33]. В 1926 году, на третьем курсе, он оставил учёбу, возможно, из-за того, что не получил стипендию, поскольку не был рабфаковцем и коммунистом; частые студенческие чистки не способствовали нормальной атмосфере в университете. Предполагается, что Ефремов, с одной стороны, оказался под влиянием распространённого в студенчестве социального утопизма, а с другой стороны, могло иметь место государственное давление из-за его «непролетарского происхождения»[34][35].

С середины 1920-х годов его жизнь проходит в палеонтологических и геологических экспедициях, маршруты пролегали по Поволжью (Большое Богдо), северу Европейской части СССР, Уралу и Средней Азии, затем — в малоисследованных областях Восточной Сибири, Якутии и Дальнего Востока[36][37]. Если от Сушкина молодой учёный воспринял биологический взгляд на палеонтологию, на изучение окаменелостей, то в экспедициях он наблюдал за условиями захоронения позвоночных, что способствовало «геологизации мышления»[38].
По подсчётам самого Ефремова, он руководил 26 экспедициями из 31, в которых участвовал (17 экспедиций были палеонтологическими и 14 ― геологическими)[39]. В ходе первой экспедиции в 1926 году удалось разработать местонахождения земноводных в известняках нижнего триаса (гора Богдо близ озера Баскунчак в районе Прикаспия), обнаружить остатки темноспидальных амфибий и других лабиринтодонтов[40][41][42]. Результаты Ефремов отразил в своей первой научной статье (1928). В тот же год исследования Богдо продолжились[43]. По настоянию Сушкина в 1927―1928 годах состоялись экспедиции в район рек Шарженга и Ветлуга, притоков Юги и Волги, откуда молодой учёный привёз множество черепов лабиринтодонтов (стегоцефалов) триаса[32][44]. Раскопки близ Шарженги увенчались успехом: маршрут экспедиции превысил 600 км, в первый сезон было обнаружено почти сто костей, а общее количество находок приближалось к тысяче[45]. В ходе раскопок в Волго-Двинском бассейне в 1927—1930 годах Ефремов обнаружил лабиринтодонтов и мелких рептилий (архозавров и других), ранее неизвестной фауны амфибий раннего триаса[40]. Первого открытого на Шарженге и наиболее распространённого лабиринтодонта он сначала назвал в честь Сушкина — Bentosuchus suchkini [44][46]. В 1929—1930 годах Ефремов дважды исследовал медистые песчаники (пермский период) в Каргалинских медных рудниках в Оренбуржье, изучал «динозавровый горизонт» северных предгорий Тянь-Шаня (1929) и пермские и триасовые ископаемые в Приуралье и на Севере европейской части СССР (Урало-Двинская экспедиция 1930 года)[47][46].

Его карьера как учёного и организатора науки продвигалась быстро[36]. В 1929 году он стал научным сотрудником II разряда[48]. В 1930 году академик Борисяк организовал отдельный Палеозоологический институт, позднее переименованный в Палеонтологический (ПИН). С 1930 года Ефремов — научный сотрудник I разряда, с 1935 года — учёный специалист, с 1937 года — заведующий отделом низших позвоночных в Палеонтологическом институте[36][49]. Первая половина 1930-х годов оказалась насыщенной: в Ленинграде с 1929 по 1935 год учёный совмещал геологические полевые исследования с полной нагрузкой в Академии наук (хотя никогда не преподавал, поскольку не мог долго говорить)[50][37]. В 1932―1935 годах прошёл курс геологоразведочного факультета Ленинградского горного института и стал горным инженером[51]. Диплом с отличием он получил в 1937 году[52]. В 1935 году по совокупности научных работ была присвоена степень кандидата биологических наук, по разделу «Палеонтология»[53] без официальной защиты[54]. В 1930 году Ефремов женился на Ксении Николаевне Свитальской, дочери профессора Горного института, геолога Н. И. Свитальского[55][56]; брак распался до 1935 года.
Remove ads
Научная работа в 1930—1940-е годы
Суммиров вкратце
Перспектива

С начала 1930-х годов Ефремов проводил геологические экспедиции в поисках нефти, угля, золота, руды и других полезных ископаемых. Помимо Урала, исследования проводились в малоизученных регионах ― Сихотэ-Алине, Амуро-Амгуньском междуречье, центральных районах горной Якутии и Восточной Сибири, включая Верхне-Чарскую котловину[57]. С июня по ноябрь 1931 года Ефремов ― начальник отряда Нижне-Амурской экспедиции, исследовал долину реки Горин, район озера Эворон[37]. В 1932 году его отряд в тяжёлых погодных условиях прошёл 600 км по рекам Нюкже, Верхней Ларбе и Аммуначе, осуществил геологическую съёмку, обследовал долину реки Геткан до Тынды (Олёкмо-Тындинская экспедиция). Экспедиция в том числе занималась поисками оптимального участка для будущей железной дороги ― по этому маршруту позднее был проложен отрезок БАМа[58]. Одна из сложнейших в жизни Ефремова ― Верхне-Чарская экспедиция 1934―1935 годов, в которой проводились, в частности, поиски нефти. Отряд прошёл по реке Олёкма, обследовал долины реки Токко и Чары; температура нередко опускалась ниже минус сорока градусов. Протяжённость маршрутов превысила 2700 км, были обнаружены уголь, медь и железо[59]. Результаты картографирования и топографической съёмки позднее использовались при создании Большого советского атласа мира[60]. Как писал палеонтолог П. Чудинов, в пути Ефремов всегда был спокоен, как будто уже знал местность, что биограф связывал с врождённой наблюдательностью и чувством единства с природой и приводил слова учёного: «Важнейшая сторона воспитания — это развитие острого восприятия природы. Притупление внимания к природе равносильно остановке развития человека, так как разучаясь наблюдать, человек теряет способность обобщать»[61]. Экспедиции Ефремова позднее породили легенды: он якобы искал золото в тайге, руководя группой рабочих-уголовников с помощью маузера, и успешно доставил и найденное золото, и уголовников[62].

В 1935 году ПИН переехал в Москву[36]. Ефремов был уже опытным геологом, за плечами которого были сложнейшие экспедиции, автором семнадцати публикаций и отчётов[63]. С 1935 года начались раскопки крупных ископаемых у села Ишеево (современный Башкортостан), которые велись ежегодно до 1939 года — последнего полевого сезона Ефремова[64]. В Ишеево была открыта разнообразная фауна наземных позвоночных перми. Учёный продолжал поездки в Приуралье, осматривал Каргалинские рудники и медные рудники Башкирии. Ефремов спускался в старые шахты, часто рискуя жизнью; он надеялся на новые находки в уже исследованных местонахождениях, попутно изучая условия сохранности остатков. Исследования рудников были малоудачными с точки зрения первой задачи, но плодотворными для анализа условий захоронения[46][65]. В 1936 году он женился на зоологе из ПИН Елене Дометьевне Конжуковой. Родившийся в том же году сын Аллан был назван в честь литературного персонажа. В Москве супруги получили двухкомнатную квартиру в Большом Спасоглинищевском переулке, недалеко от Китай-города[66]. По воспоминаниям Аллана о своей матери, «от неё отец получил заряд общей культуры. Будучи из хорошей семьи, она оказала сильнейшее влияние на его мировоззрение и на его дальнейшую судьбу, как и он на неё»[54].
При подготовке к XVII Международному геологическому конгрессу в Москве (1937) обнаружилась нехватка помещений для перевезённых из Ленинграда коллекций, и Ефремов стал инициатором письма нескольких учёных к Сталину с просьбой решить эту проблему[67][68]. Как отмечал историк В. В. Комиссаров, неизвестно, дошло ли письмо до адресата, однако, как правило, «вождь» получал подобные письма[69]; помещения были выделены. На конгрессе учёный прочитал доклад о наземных позвоночных перми и нижнего триаса[68]. В том году Ефремов вполне мог быть арестован, когда среди множества учёных был репрессирован его бывший тесть Н. Свитальский, вице-президент Академии наук УССР[70][71], а в начале 1938 года арестовали руководителя его первой экспедиции М. Баярунаса[72]. Ожидая ареста, учёный сжёг большую часть дневников и писем[73][72]. Его опасения были небеспочвенными, поскольку Ефремов, помимо прочего, переписывался с немецким палеонтологом Ф. фон Хюне[73]. Экспедиции в 1930-е годы проходили в Сибири и на Дальнем Востоке, поэтому он, несомненно, знал о лагерях и спецпоселениях[74]. Отсылкой к сталинским репрессиям можно считать осуждение в «Лезвии бритвы» средневековой «охоты на ведьм» и упоминание об ужасах пыток, повторённое в «Часе Быка»[К 3]. Хотя Ефремов чаще всего избегал политических оценок, в конце жизни в одном из писем (1968) он назвал сталинское время «контрреволюционным», периодом «тирании»[75][76], а места заключения в СССР ― «концлагерем» (1963)[77][78].

В марте 1941 года за работу «Фауна наземных позвоночных средних зон перми СССР» Ефремову была присвоена учёная степень доктора биологических наук, диссертация в основном затрагивала мезенскую фауну пресмыкающихся и описывала дейноцефала-улемозавра из Ишеево[79][80], ВАК присвоила звание профессора в 1943 году[80]. В начале Великой Отечественной войны занимался эвакуацией коллекции Палеонтологического института[79]. В конце 1941 ― начале 1942 года — консультант экспедиции «особого назначения» в Свердловске, Чкалове и Приуралье[81][82]. Весной 1942 года в Свердловске он перенёс тяжёлую форму лихорадки тифозного типа, получив тяжёлую болезнь сердца. Болезнь надолго приковала его к постели. Учёный находился в Алма-Ате, а в 1943 году — во Фрунзе[83]. В эвакуации он много занимался организационной работой, пытаясь работать над монографией по тафономии[84]. Во Фрунзе Палеонтологический институт разместился в здании Киргизского пединститута; как пишут биографы, кабинет учёного располагался в тамбуре, где он заканчивал рукопись «Тафономии». В Алма-Ате приступ болезни повторился. Из эвакуации вернулся в конце 1943 года[85][86].
К 1944 году относятся обобщающая статья об остатках динозавров в Средней Азии и материал по стратиграфии верхнепермских отложений в европейской части СССР. Эта работа активно использовалась для геологической съёмки[87]. Летом 1945 года Ефремов — руководитель экспозиции, приуроченной к юбилею Академии наук[88][89]. В 1945 году он совместно с В. А. Обручевым воссоздал научно-популярный журнал «Вокруг света», закрывшийся в начале войны, и поначалу возглавлял его редколлегию. Оба учёных влияли на тематику издания ― в публикациях преобладали палеонтология, геология, археология[90]. В 1946 году вышла небольшая монография по батрахозаврам («лягушкоящерам»), после которой интересы учёного сместились от земноводных к тероморфам (зверообразным пресмыкающимся)[91].
Как отмечал Комиссаров, Ефремов не получил систематического образования и фундаментальной подготовки, однако сумел достичь значительных результатов и общественного статуса благодаря упорству, труду, способностям организатора и лояльности к властям. Его характеризовали честность, открытость, принципиальность, вера в своё дело, высокая требовательность к себе и другим[92]. В этой связи приводится цитата из «Лезвия бритвы»[93][94]: «Начальник — тот, кто в трудные моменты не только наравне, а впереди всех. Первое плечо под застрявшую машину — начальника, первый в ледяную воду — начальник, первая лодка через порог — начальника, потому-то он и начальник, что ум, мужество, сила, здоровье позволяют быть впереди. А если не позволяют — нечего и браться». Учёный считал главным в науке труд, что соответствовало его собственным качествам — исключительным усердию и работоспособности[95]. Выходец из разночинцев Ефремов в социальном и профессиональном плане воплощал образ советского интеллигента, который, пройдя через тяготы Гражданской войны, сумел реализовать себя как учёный. По мнению Комиссарова, жизненные испытания не озлобили Ефремова, а способствовали критическому отношению к действительности и нравственной стойкости[96].
Remove ads
Монгольские экспедиции
Суммиров вкратце
Перспектива
Вершина исследовательской деятельности Ефремова ― руководство в 1946, 1948 и 1949 годах тремя палеонтологическими экспедициями в Монголию. О перспективах региона было известно ещё в 1920-е годы, после американской экспедиции Р. Ч. Эндрюса[97]. Исследования обсуждались в Академии наук до войны[98][99][33]. В 1945 году Ефремов и Ю. Орлов, занявший должность директора ПИН после смерти Борисяка, начали продвигать идею экспедиции в Монголию по государственным инстанциям. Учёные обращались как к научной аргументации, так и к понятной чиновникам идеологической риторике, ссылаясь на возможные «открытия мирового значения», которые повысят авторитет советской науки. Основная организационная нагрузка легла на Ефремова, которому пришлось пройти всю бюрократическую цепочку (включавшую Академию наук и различные государственные ведомства вплоть до ЦК), чтобы добиться утверждения экспедиций, их финансирования и снаряжения. Проекту был дан зелёный свет: Ефремов стал руководителем экспедиции, Орлов — научным консультантом; в составе работали такие учёные, как В. Громов, А. Кирпичников, К. Флёров, Я. Эглон, М. Лукьянова и другие[100][101].

Ефремов хорошо знал о раскопках американских учёных, но не во всём соглашался с их выводами и хотел проверить гипотезу тафономии[102][103], считая, что «Центральная Азия в меловой период была заболоченной низменностью с множеством воды и богатейшей растительностью»[104]. Экспедиция стартовала только в августе 1946 года; Ефремов принял важное решение, которое определило её успех: он рискнул провести раскопки не по запланированному маршруту (в более изученной и доступной Средней и Восточной Гоби, где ожидал «верный успех средней руки»), а в неизведанном регионе Южной Гоби. Учёный рассчитывал на серьёзные находки уже в первом полевом сезоне; определяя возможные местонахождения, он следовал положениям собственной тафономии. За сентябрь и октябрь было пройдено 4700 км, преимущественно по южным районам Гоби, в условиях неблагоприятного климата, без воды и по бездорожью. На начальника экспедиции легла колоссальная нагрузка по решению различных вопросов, особенно частых поломок машин и контроля за расходом горючего[105][106][107]. Хотя экспедиция планировалась как предварительная и разведывательная[108], она добилась крупного успеха[109]: вес материалов составил 70 тонн[110], в основном ― окаменелости позднего мела[108]. Помимо уже известных местонахождений меловых динозавров Ширэгин-Гашун и Баин-Дзак, были обнаружены новые: в Южной Гоби — Нэмэгэту, Улан-Ош, Олгой Улан-Цав, Алтан-Ула («Могила Дракона»[111]); в Восточной Гоби — Баин-Ширэ, Хамарин-Хурал и другие. Наиболее ценной находкой стало гигантское местонахождение динозавров в котловине Нэмэгэту[112][109], в 400 км к западу от Далан-Дзадагада[113][К 4].
Из-за обработки большого количества материалов следующую экспедицию пришлось перенести на 1948 год; с этой просьбой Ефремов обращался лично к С. Вавилову, прося его о содействии в ряде вопросов. Ефремов столкнулся с ещё большим количеством административно-бюрократических барьеров и межведомственной несогласованностью — в частной переписке он жаловался на «чудовищный бюрократизм», «абсолютное чиновничье бездушие» и «гнусную бумажную волокиту». Подготовка третьей экспедиции оказалась проще ввиду уже очевидного влияния работ на международный престиж советской палеонтологии[114][110][115]. За два сезона (1948 и 1949), прежде всего в ходе масштабных раскопок в Нэмэгэту, исследователи достигли выдающихся результатов. Среди найденных и вывезенных мезо-кайнозойских находок — десять полных скелетов динозавров, включая два скелета крупных травоядных зауролофов, их черепа и блоки с отпечатками кожи, четыре скелета тарбозавров, части скелетов зауропод и гадрозавров; крупные наземные карнозавры и анкилозавры, ранее неизвестные в Евразии; многочисленные ископаемые деревья, остатки гигантских черепах, крокодилов, рыб, а также млекопитающих палеогена и др.[116][117][118][119] Было привезено 120 тонн палеонтологических коллекций[120], а общий пройденный маршрут составил 27 тысяч км, в основном по малоизученной Южной Гоби[121]. В дополнение к множеству находок различных динозавров мела и позвоночных палеоцена и раннего эоцена, учёным удалось разделить на три группы меловую фауну, собрать новые данные о палеогеографии и климате Монголии в меловой период[122][103]. Теоретические догадки Ефремова подтвердились[123]: Гоби не была пустыней со времён мезозоя, как ранее считалось, а в течение десятков миллионов лет представляла собой заболоченные низменности, богатые флорой и фауной[124][125].
Remove ads
1950-е годы и уход из науки
Суммиров вкратце
Перспектива
Несмотря на успех монгольских экспедиций, Политбюро ЦК не стало их продлевать[К 5][126][120]. В годы экспедиций Ефремову удалось написать ряд статей, в 1950 году вышел фундаментальный труд «Тафономия и геологическая летопись», который два года спустя получил Сталинскую премию второй степени[127]. В 1953 году Ефремов исполнял обязанности директора и осенью выдвигался в члены-корреспонденты, но неудачно[128], что, по всей вероятности, воспринял болезненно[129]. В 1954 году прочитал доклад на Всесоюзном палеонтологическом совещании о стратиграфических схемах, вышли научно-популярная статья «Что такое тафономия?» и обзор результатов монгольских экспедиций[130]. В начале 1950-х годов ещё одно его предложение по Монголии не поддержали в ПИН, поскольку институт и так был заполнен коллекциями, которые негде было хранить[127]; учёный, тем не менее, мечтал о раскопках в Индии, Бирме, Афганистане[130]. Он продолжил работу над монгольской тематикой и пермской фауной, подготовил ряд экспедиций на территории СССР. В 1957 добился раскопок около Очёра (Пермская область), что привело к трём плодотворным сезонам[131]. В 1958 году Ефремов совершил месячную поездку в Китай, участвовал в подготовке китайской экспедиции во Внутреннюю Монголию, но не смог её возглавить по состоянию здоровья[132][133]. Его последняя научно-популярная статья ― «Космос и палеонтология» (1967).

«Гобийская одиссея» укрепила научный авторитет Ефремова, однако фактически способствовала уходу из профессии[134][135]: административная деятельность отдалила его от науки, ему пришлось заново адаптироваться к текущей работе в ПИН. Если в экспедициях он самостоятельно принимал решения, то в институте зависел от начальства, что негативно отразилось на его самочувствии и настроении[136]. Физические нагрузки и климатические адаптации сказались на его здоровье[135][137][129]; в Гоби он работал с невралгией правой руки и болями в области сердца[138]. С начала 1950-х годов он начал болеть, а к середине 1950-х годов проблемы с сердцем обострились, и в 1955 году Ефремов получил временную инвалидность (которую впоследствии продлевал), что исключало формальную занятость[139][129]. В 1956 году учёный вернулся в институт, но полноценно уже не работал и официально ушёл из ПИН в 1959 году[129][140]. Уходу сопутствовали разногласия с руководством: Ефремов упрекал Орлова в нерешительности в вопросах реорганизации института, его развития и расширения[129]. В 1962 году он последний раз попытался вернуться в ПИН, но там не было подходящей вакансии; Ефремов в личном письме гневно обвинил Орлова в намеренных действиях против него[141][142]. Историк науки Т. И. Юсупова заключала, что независимость и открытость Ефремова («настойчивое упрямство», по его собственному признанию) не слишком сочетались с приспособлением к новым обстоятельствам и с поведенческой гибкостью и привели к конфликту с руководством ПИН. Ефремов не смог принять формального отношения и апелляции к трудовому законодательству[143].
В 1950-е годы была написана научно-популярная книга «Дорога ветров», в которой Ефремов изложил свои впечатления о монгольских экспедициях. Автор охарактеризовал книгу как «заметки путешественника, знакомящие с областью Центральной Азии, а также с некоторыми достижениями палеонтологической науки»[144][145]. Название отсылает к караванному пути из Китая в Россию через северную Гоби[146]. Первую часть («Кости Дракона»), посвящённую исследованиям 1946 года, Ефремов закончил сразу после возвращения из Монголии, однако её опубликовать не удалось, а работа над второй частью («Память земли») затянулась. «Дорога ветров» была издана в 1956 году[147]. В книге живым и образным языком[148] рассказывается о трудных буднях экспедиции, самоотверженности её участников, о научных открытиях[120][146]. Красочные зарисовки быта и яркие портреты людей сочетаются с выразительными описаниями природы. Автор популяризирует геологию и палеонтологию, рассуждает о полевой работе учёных[149], об эволюции животного мира, единстве человека и природы, значении прошлого[146].
Remove ads
Последние годы жизни
Суммиров вкратце
Перспектива

В 1960-е годы книги Ефремова печатались большими тиражами, его произведения открывали сборники научной фантастики и представляли советскую фантастику за рубежом, а его отношения с властями формально были отличными[150]. «Лезвие бритвы» продавалось на чёрном рынке за огромные деньги — 40 рублей[151]. Тем не менее в 1964 году писатель жаловался в частной переписке, что написание книг ― «дело выгодное лишь для халтурщиков или заказников». По его подсчётам, за пять с половиной лет работы над «Лезвием бритвы» он заработал меньше, чем если бы получал зарплату доктора наук и тем более заведующего лабораторией[152]. В 1961 году от декомпенсации порока сердца умерла его вторая жена, борьба за её жизнь безуспешно велась пять месяцев. В последние годы Ефремов долго и тяжело болел, его здоровье неуклонно ухудшалось[153]. По медицинским причинам ему предписывался строгий режим, запрещались путешествия, кроме Крыма (Коктебель), позднее — водного маршрута на пароходе по Волге, а в конце жизни ему разрешалось отдыхать только в Подмосковье[154]. В 1962 году он женился на Таисии Иосифовне Юхневской, чья любовь и забота, по словам Чудинова, продлили ему жизнь; Таисия стала музой писателя, который посвятил ей последние произведения[155]. В марте 1966 года после острого сердечного приступа (кардиальная астма с отёком лёгких) Ефремов остался жив благодаря жене, которая вовремя сделала инъекцию и не позволила отвезти его в больницу[156][157]. Писатель часто сравнивал себя с броненосцем, который получил пробоину и медленно шёл ко дну[158][159].
После пражских событий советское руководство ужесточило идеологический контроль и цензуру, нацелившись на научную фантастику[160]. Как полагал С. Сергеев, Ефремов предвидел скандал вокруг «Часа Быка», однако в целом успешно пытался смягчить его последствия, максимально затруднить работу доносчикам и идеологам. Он советовал В. Дмитревскому отменить обсуждение романа в Союзе писателей в Ленинграде и категорически отрицал любые параллели или сравнения с современностью[161], позиционируя роман как антимаоистский; не исключено, что он верил в свою версию, хотя параллель с СССР неизбежно возникала[162]. Проблемы начались «снизу»: в ЦК КПСС поступали «сигналы» от «бдительных» граждан, заметивших в книге идеологические ошибки — как, например, детальный философский разбор книги, возможно, выполненный коллективом авторов[163]. После книжной публикации «расшифровкой» романа занялся КГБ: в секретной записке в ЦК от 28 сентября 1970 года за подписью Ю. Андропова утверждалось, что писатель «под видом критики общественного строя на фантастической планете „Торманс“ по существу клевещет на советскую действительность»[164][165]. Вопрос препоручили ЦК ВЛКСМ, который указал «Молодой гвардии» «на необходимость повышения требований к авторам и более тщательной работы над рукописью». Одновременно сместили главного редактора журнала «Молодая гвардия» А. Никонова и двух его заместителей за публикации «националистического характера»[165][166]. Не исключено, что «Час Быка» стал поводом для атаки на редколлегию (о чём Ефремов знал), которая подозревалась в национализме ― чистка журнала уравновесила разгром либерального «Нового мира»[165].
Журнал «Молодая гвардия» …подвергается суровой критике (на мой взгляд преувеличенной). В числе ошибок редакции… считают и опубликование моего романа. Некоторые люди усмотрели в романе опорочивание нашего строя. …Разумеется, «Час Быка» — очень сложный роман, и одной из его главных целей была критика маоизма, который, как известно, использует опыт коммунистического строительства в нашей стране, искажая и выворачивая его в своих целях. И очень плохо для критики, если изображение будущего строя, смоделированного по маоистскому Китаю плюс гангстерскому монополистическому капитализму, она принимает за какое-то изображение нашего строя!
…
Вполне возможно, что у меня могут встретиться неточные отдельные места, но как может фантастический роман претендовать на абсолютную непогрешимость предсказаний будущего или описаний такового?..
…
Естественно, я обращаюсь в высший орган партии нашей страны с просьбой или указать мне мои ошибки, или разъяснить, что опубликование моего романа «Час Быка» не является идеологической ошибкой редакции журнала «Молодая гвардия» или, соответственно, издательства.
Из письма И. Ефремова к П. Демичеву[167]
20 ноября 1970 года писатель, возможно, по просьбе «Молодой гвардии», направил почтительное письмо секретарю ЦК КПСС П. Демичеву, который курировал вопросы культуры[168][165]; к письму прилагался авторский экземпляр романа. Обращение возымело эффект: Демичев принял Ефремова[169], подробности встречи известны из воспоминаний вдовы писателя в изложении писателя А. Измайлова и, возможно, не являются полностью достоверными. По словам Т. Ефремовой, встреча прошла в доброжелательной атмосфере, писатель и идеолог нашли взаимопонимание. Демичев лично прочёл роман, его не устраивала коллегиальность власти на планете Торманс, он советовал подчеркнуть единовластие[170][171]. По результатам беседы Ефремов оптимистично писал Дмитревскому, что «„Час Быка“ можно „пропагандировать“», поскольку «нападение отведено самыми высокими инстанциями»[172][173]. Отдел культуры ЦК прокомментировал встречу: «Писатель И. А. Ефремов…выражает несогласие с некоторыми критическими оценками его научно-фантастического романа „Час Быка“…ему даны необходимые разъяснения…И. А. Ефремов беседой удовлетворён»[174][175]. Несмотря на благожелательный тон официальных постановлений[176], роман фактически запретили[177], хотя внешне лояльного автора трогать не стали[172]. Запрету способствовали чисто коммерческие обстоятельства (в записке Андропова отмечалось, что на «чёрном рынке» роман продаётся в 10 раз дороже официальной цены)[178] и внимание к книге со стороны эмигрантской критики[176]. «Час Быка» не переиздавался до 1988 года, запрет распространялся на упоминание, хотя из библиотек книга, скорее всего, систематически не изымалась[172].
Remove ads
Вклад в науку
Суммиров вкратце
Перспектива

В круг научных интересов Ефремова входили несколько направлений[179], среди которых П. Чудинов выделял четыре: тафономию, описание земноводных и пресмыкающихся, стратиграфию и обзорные работы (морскими отложениями и беспозвоночными он интересовался мало[180]). Его труды затрагивали всю тематику древнейших наземных позвоночных, включая фауны динозавров в СССР и Монголии. Научное наследие Ефремова включает около ста научных работ, двухсот других публикаций, среди которых заметки, рецензии, отзывы, научно-популярные статьи[181].
Ефремов писал на разные палеонтологические темы, его интересы постепенно смещались от описания остатков позвоночных к их использованию для целей стратификации; его схемы континентальных отложений использовались геологами[182][183]. Среди описаний пермских позвоночных ― котилозавры из Белебея (Башкирия), пресмыкающиеся с низовьев Мезени, хищные дейноцефалы (Ишеево); учёный исследовал черепа улемозавров-мосхопсов (Ишеево) и др. В соавторстве с А. П. Быстровым опубликовал монографию (1940) по остеологии и анатомии эотриасового лабиринтодонта-бентозуха с реки Шарженги. За монографию авторы в 1957 году были удостоены почётных дипломов Линнеевского общества (Англия)[184][46]. В описании мезенской фауны в 1938―1940 годах Ефремов установил новые роды пресмыкающихся: никтифрурет, никтеролет (мелкие котилозавры) и мезенозавр (мелкий хищник)[185][46]. Большое количество находок в Волго-Двинском бассейне позволило выделить группу новых родов древнейших амфибий раннего триаса (Neorachitomi)[186]. На основе остатков черепа из Ишеево палеонтолог выявил новый род рептиломорфных амфибий — лантанозухов и выделил подкласс батрахозавров, которые, согласно его анализу, занимали промежуточное место между земноводными и пресмыкающимися[91][46].
В середине 1930-х годов учёный наметил идеи будущей «тафономии»[187]. Хотя аналогичные разработки велись немецкими исследователями с начала XX века[188][189], Ефремов обратил внимание на закономерности процессов уничтожения геологической летописи, в дополнение к вопросам образования местонахождений и захоронения остатков[187][190]. Основные положения тафономии были изложены в статье в американском журнале «Pan-American Geologist» в 1940 году[191]. Тафономия характеризовалась как «учение о закономерностях захоронения органических остатков, то есть закономерностях перехода органических остатков из биосферы в литосферу в результате совокупности геологических и биологических процессов»[192], в результате которых остатки организмов становятся окаменелостями[193]. Этот подход позволял объяснить отсутствие или слабое присутствие в геологической летописи переходных и редких форм[194]. Задачей тафономии являлось «создание представлений о выпавшей из геологической летописи части органического мира прошлых геологических эпох, познание пределов точности теоретических построений палеонтологии»[192]. Помимо обособления исследовательской области, Ефремов рассчитывал получить больше данных из окаменелостей, чтобы лучше изучить среду прошлого и доисторическую фауну и, как следствие, лучше понять историю эволюции[189]. Геолого-биологический метод тафономии через исторический анализ рассматривал как геологическую летопись, так и переход в современных условиях от биоценоза к танатоценозу. Поэтому методологически тафономия включала биостратономию (распределение органических остатков в осадках) и актуопалеонтологию (современное захоронение остатков), но не палеоэкологию. Актуопалеонтология позволяла рассмотреть палеоэкологические и эволюционные аспекты комплексов ископаемых остатков, обычно включавших различные организмы и таксоны с общей стратиграфией[195][196][197].

В работах начала 1940-х годов Ефремов систематизировал сведения по всем пермским и триасовым наземным позвоночным в СССР[198]. На основе этих данных он составил последовательную зональную схему (которую неоднократно уточнял, основной стала версия 1952 года) для стратиграфии континентальных перми и нижнего триаса. Схема включала три зоны перми: различные виды дейноцефалов (зоны I—II), пеликозавры и котилозавры (первоначально ― зона III, которая, как в дальнейшем выяснилось, существовала одновременно с зоной II), парейазавры (IV); три зоны триаса: лабиринтодонты-бентозухиды, ветлугозавры, архозавры (V); трематозавриды и капитозавры (VI); крупные лабиринтодонты и дицинодонты (VII). Стратиграфическая схема расчленения красноцветных отложений, включавшая их межконтинентальную корреляцию по фаунам позвоночных, получила широкое международное признание у геологов и с небольшими уточнениями существовала на конец XX века[199][198][200].
В капитальном труде «Фауна наземных позвоночных в пермских медистых песчаниках Западного Приуралья» (1954) учёный обобщил свои многолетние исследования[46]. Медистые песчаники и их фауна долгое время интересовали Ефремова и связывались с другими темами[201]. Монография стала своего рода энциклопедией континентальной перми[202], включала морфологию и систематику фауны[203]. Автор выделил новые виды хищных дейноцефалов и других терапсид[46]. Работа привлекла внимание не только палеонтологов, но и геологов, географов, историков Западного Приуралья[204]. Написанный в соавторстве с Б. П. Вьюшковым «Каталог местонахождений…» (1955) обобщил открытия и исследования местонахождений наземных позвоночных перми и триаса на территории СССР первой половины XX века, завершив «эру Ефремова» в советской палеонтологии[205]. Каталог долго оставался единственным в своём роде изданием в СССР[206].
Remove ads
Литературное творчество
Суммиров вкратце
Перспектива
Ранние произведения. «На краю Ойкумены»
Ефремов пробовал писать ещё в юности, однако бросил начатый в середине 1920-х годов роман об Атлантиде[54], а в 1930-е годы он безуспешно пытался записывать воспоминания геолога[207]. После тяжёлой болезни во время эвакуации в 1942—1943 годах был задуман и написан цикл из семи рассказов ― историй о необычных путешествиях и приключениях, которые рассказывают моряки, геологи, лётчики, инженеры. Литературным дебютом стала «Встреча над Тускаророй», опубликованная во втором номере журнала «Краснофлотец» за 1944 год. «Рассказы о необыкновенном» печатались в «Новом мире» и «Технике ― молодёжи», военных журналах и составили авторский сборник «Пять румбов» (1944) в «Молодой гвардии», тиражом в 25 тысяч экземпляров. Сборник включал пять рассказов, а всего за два года (1944―1945) Ефремов опубликовал более десятка рассказов[К 6]. Произведения имели успех у читателя, положительно отозвался о «правдоподобности необычного» А. Толстой, который пригласил к себе начинающего литератора. Ефремова несколько неожиданно приняли в Союз писателей СССР[209][210][211][212].

Первые рассказы содержали оригинальные идеи, но в целом не выделялись из общего массива приключенческой литературы и находились в мейнстриме идеологии. Эти произведения объединены в «геологический» и «историко-географический» циклы[213]. Отмечалась их новизна: «рассказы о необыкновенном» возродили короткую форму (в отличие от объёмных текстов фантастики 1930-х годов)[214][215], достоверность и искренность следовали из личного опыта автора, убедительность и точность обеспечивал простой язык из профессиональных терминов. Люди сталкиваются с природой, преодолевают трудности и получают награду в виде чудесной находки: ртутное озеро («Озеро горных духов»), залежи алмазов («Алмазная труба»), встречу с легендарным чудовищем («Олгой-Хорхой») и т. д. Природа обладает собственной ценностью и является главным персонажем ранних рассказов; по выражению Е. Брандиса и В. Дмитревского, «вне природы герой Ефремова не играет». Хотя в рассказах много науки, авторская «романтика познания» природы в духе географической прозы происходит из жажды познания, а не для утилитарных целей[216][217]. Структура нарратива и действия героя определяются природой, пейзажем; человек смертен, а природа вечна, её неотъемлемой частью является прошлое, природа ― условие для существования личности. В отличие от традиционного романа приключений и жанра соцреализма, герои писателя в одиночку сталкиваются с природой, чтобы проявить свои качества. Человек встречается не столько с природой, сколько с самим собой, через природу он познаёт себя и собственную историю, ощущает связь времён[218]. Сюжеты не подразумевали глубокого описания характеров, внутреннего мира героев — все они, как и художественные приёмы, однотипны и представляют одного героя — человека мысли и действия, отражают alter ego автора[219][220]. В рассказы вошли некоторые события экспедиционной жизни Ефремова: в основу «Белого Рога» лёг эпизод, когда молодой учёный чуть не сорвался со скалы на горе Богдо; «Путями старых горняков» точно воспроизводит исследования медных рудников в посёлке Горный в Предуралье, а «Голец Подлунный» ― поход в глубь хребта Кодар в Чарской котловине[221][222].

Историческая дилогия «Великая дуга» («На краю Ойкумены»; написана в 1945―1946 годах[223]) содержит элементы фантастики, хотя вымысел подчиняется исторической достоверности: писатель расширяет традиционные представления о неизменности границ древних цивилизаций, разделённых большими расстояниями, и показывает, казалось, невозможные контакты между ними[224]. «Путешествие Баурджеда», опубликованное в 1953 году, рассказывает о путешествии египтян периода Древнего царства в сказочную страну Пунт (побережье Аденского залива) и южнее, к реке Замбези[225]. Изданная в 1949 году повесть «На краю Ойкумены» посвящена приключениям молодого греческого скульптора, Пандиона (XI—X века до н. э.), который отправляется на поиски совершенного искусства[226] и попадает в рабство к фараону. Чтобы вернуться на родину, он с группой бывших рабов пересекает всю Африку с востока на запад[225]. «Путешествие Баурджеда» рассматривается критиками в том числе как антитоталитарное произведение, как политическая аллегория эпохи сталинизма[227][228][229]. Автор показывает конфликт человека и государства: первая повесть утверждает неизбежность антагонизма между личностью и властной тиранией, в центре второй повести — столкновение художника и власти, искусства и деспотического государства[230]. Как отмечал Л. Геллер, Ефремов, следуя лучшим русским писателям, отстаивает право художника на независимость и свободу, для него неприемлемы лицемерие и трусость, прислуживание власти ― Пандион отказывается работать по заказу египтян[227]. Ефремов противопоставляет две исторические тенденции: открытую и жизнелюбивую Элладу замкнутому и косному Египту, который страдает от деспотии[231][232]. Образ «Великой Дуги» ― земного океана, связывающего народы, ― олицетворяет их братство и борьбу за свободу[233].
В повести «Звёздные корабли», по оценке Геллера, достаточно шаблонной по сюжету (посещение Земли пришельцами во времена динозавров) и слабой в художественном плане, у Ефремова появляется идея связи Земли и космоса, будущего объединения разных миров[234][235]. Идея пулевого отверстия в костях впоследствии тиражировалась в отечественной паранауке (палеоконтакт); описание черепа пришельца, придуманное А. Быстровым (прототип одного из героев), сформировало образ инопланетянина в советской уфологической литературе[236]. Советский физик Ю. Денисюк утверждал, что его исследования по оптической голографии вдохновило изображение из «Звёздных кораблей»[237][238]. Повесть была написана в 1946―1947 годах и вышла в журнале «Знание — сила» (1947)[239]. Литературные успехи учёного привлекли внимание руководства ПИН: весной 1952 года партбюро собиралось провести заседание по личному делу беспартийного Ефремова, который тратил рабочее время на написание художественных произведений. Обсуждение не состоялось, поскольку учёный получил Сталинскую премию[240][208].
«Туманность Андромеды»

Над своим самым известным произведением (первоначальное название — «Великое Кольцо») Ефремов работал чуть больше года, замысел «звёздной повести» относится к 1954―1955 годам[241], основная часть писалась весной и летом 1956 года на съёмной даче под Звенигородом. Сокращённый вариант печатался в «Технике ― молодёжи» в 1957 году[242], годом позже вышло отдельное издание. Автор отказывался лучше проработать роман и отложить публикацию, считая его «первой вехой», а не программной работой[243]. Отправной точкой «Туманности Андромеды» Ефремов называл роман Уэллса «Люди как боги»[244][245], утверждая, что частью полемизировал с картиной «затухания» человечества в «Машине времени»[245], а также признавал влияние Ш. Фурье («из классических утопистов мне наиболее приятен Фурье»)[246][247]. По словам автора, замысел романа возник у него, когда он прочитал[К 7] ряд западных, преимущественно американских, научно-фантастических книг о завоевании космоса[248][249]:
…у меня возникло отчётливое и настойчивое желание дать свою концепцию, своё художественное изображение будущего… Всей этой фантастике, проникнутой мотивами гибели человечества в результате опустошительной борьбы миров или идеями защиты капитализма, охватившего будто бы всю Галактику на сотни тысяч лет, я хотел противопоставить мысль о дружеском контакте между различными космическими цивилизациями.
Автор детально описывает коммунистическое общество, роман сочетает футурологию, научно-техническую фантастику, космические приключения, затрагивает взаимоотношения, проблемы и мысли людей будущего[250][251]. Действие «Туманности Андромеды» разворачивается в XXX веке ― в Эру Великого Кольца, всепланетной коммунистической цивилизации, когда общество переживает расцвет культуры, науки и техники. Человечество давно преобразовало Землю (по ней «можно всюду пройти босым, нигде не повредив ног»), вышло в космос и, освоив Солнечную систему, уже много столетий поддерживает связь с десятками других обитаемых миров галактики, хотя без непосредственного контакта из-за огромных расстояний. Великое Кольцо позволяет обмениваться информацией[252][251] и не имеет цели, за исключением приятного общения[253]. В центре романа ― два важных события, которые приближают победу человека над пространством и временем. Физики Земли, пытаясь найти переход в нуль-пространство, проводят опасный эксперимент, который оканчивается трагедией, гибелью четырёх человек; однако ясно, что в долгосрочной перспективе успех неизбежен. В другой сюжетной линии земляне впервые обнаруживают на одной из планет доказательства существовании жизни за пределами Млечного Пути, а Земля получает сообщение от разумной цивилизации из туманности Андромеды. В торжественно-героическом финале романа в далёкий космос отправляется экспедиция, которая уже не сможет вернуться[254][251].
Человек эры Кольца — духовно и физически совершенен, высокообразован, великодушен, не испытывает сострадания и жалости, а бескорыстно помогает более слабым; он ― свободолюбивый путешественник, не любящий города. Сообщество сверхлюдей будущего представлено как гармоничная и единая семья, в которой их могущество «безвредно»[255]. Как отмечал Геллер, «Туманность Андромеды», как любая утопия, является в первую очередь социальной критикой: Ефремов имплицитно противопоставляет своё общество основанному на насилии обществу XX века и обращается к далёкому прошлому, к Элладе и Индии, связывая миф и коммунистическое будущее. Персонажи романа описаны как боги, герои древности, чьи качества утрачены в современную эпоху. Героев нет в настоящем, но они возродятся в далёком будущем[256].

Главной потребностью человека стал многообразный творческий труд. Человечество говорит на одном языке[257], оно возникло в результате длительного процесса ассимиляции и слияния антропологических типов, разных рас и народов и евгенической селекции, которая, впрочем, не предполагала физического устранения дефективных людей[258][259]. Развитие медицины увеличило продолжительность жизни до двухсот лет, исчезла старость. Численность населения стабилизирована ― каждая женщина обязана родить двоих детей. Полностью автоматизированы заводы и энергостанции, планета связана единой энергетической и транспортной системой и разделена на природно-климатические зоны. Люди проживают в умеренных широтах с мягким климатом, другие регионы (тропики) являются сырьевыми и производственными, место жарких пустынь занимают цветущие сады, растоплены льды на полюсах (своеобразное контролируемое «глобальное потепление»)[260][261]. Против этой модели Г. Гуревич уже в 1967 году сформулировал контраргументы: рост и усложнение потребностей бесконечны, как и обогащение духовной жизни; вместо роста численности населения может возрасти продолжительность жизни и, следовательно, производство; рост последнего приведёт к росту познания[253].
Идею Великого Кольца — братства всех разумных существ — писатель считал своим главным достижением[262]; отмечалось влияние проектов Циолковского по освоению космоса[263][264], хотя подход Ефремова был более эгалитарным[265], акцентировал невмешательство и ненасилие по отношению к другим мирам[266]. В мире будущего Ефремова нет государств, государственных границ и социальных различий ― эта модель противопоставлялась вселенной империй и королевств «Звёздных королей» Э. Гамильтона[246][267]. Автор описывает историю человечества устами своей героини Веды Конг: Эра Разобщённого Мира (до XX века) сменилась Веком Расщепления, когда планетарный раскол и открытие атомной энергии поставили человечество на край гибели; новое общество формировалось в последующую Эру Мирового Воссоединения[268]. Модель общества в Эру Кольца носит антиавторитарный и неиерархический характер (автор использует нейрофизиологические аналогии), без центра и на основе горизонтальных связей[269]. В обществе отсутствуют принуждение и насилие (даже в виде уговоров), его отличают высокий уровень доверия и уважения, самодисциплина и ответственность[259][270]. Управление возложено на общественно-консультативные структуры сетевого типа (Академия Горя и Радости, Академия Стохастики и Предсказания Будущего, Академия Пределов Знания и др.), хотя центральное место занимает Совет Экономики, имеются аналоги контролирующих и судебных органов (Совет Чести и Права)[271][259]. Те, кто не хотят или не могут жить в обществе, отправляются на остров Забвения[270]. В обществе Ефремова нет социальных или статусно-ролевых конфликтов, что, по мнению Комиссарова, отражает общую проблему описания коммунистического будущего в советской фантастике[272].
Место института семьи занимает свободная любовь — временные отношения на основе взаимной симпатии. Деконструкция семьи, раскритикованная в советской печати[273], дополняется коллективным воспитанием детей (с годичного возраста) — победой рациональности над «слепым материнским инстинктом». В ходе обучения лучшие учителя раскрывают врождённые качества учеников, помогают им преодолевать эгоизм и обуздывать желания. В возрасте семнадцати лет сдаётся экзамен на зрелость — «подвиги Геркулеса»[274]. Если матери хотят сами воспитывать детей, то отправляются на остров Матерей (Ява). Коллективная система воспитания ― одна из наиболее спорных идей у Ефремова[275] и, по-видимому, связана с его жизненным опытом, ранним разрывом с родителями, хотя «школа третьего цикла» ближе к английской public school, чем к советскому интернату; отмечалось, что общественное воспитание ― частый элемент утопий[276][277].
Роман сочетал политические, социальные и научно-популярные аспекты дискурса ранней «оттепели»[278][279]. Совет Звёздоплавания оправдывает «аварийщика» Мвена Маса, который ответственен за катастрофический эксперимент, и назначает ему мягкое наказание — эпизод явно отражает переход от репрессий к перевоспитанию и общественному порицанию[280]. Мир будущего начинается с сооружения всепланетной Спиральной Дороги, которая соединяет страны и континенты — это описание, помимо очевидной аналогии с индустриальным развитием раннего капитализма, имеет сходство с проектами середины 1950 годов, в которых исполинские атомные поезда с большой скоростью неслись по широким рельсам[281]. Образ астронома Пура Хисса, который ссорится, ругается и обвиняет товарищей, воплощает карьериста, доносчика и провокатора сталинской эпохи — в будущем Ефремова такие люди не могут преуспеть[282]. Несмотря на настойчивые рекомендации, автор не включил в роман памятник Ленину ― он не был шестидесятником, и важная для дискурса «оттепели» дихотомия «хороший» Ленин ― «плохой» Сталин не была для него значимой[283].

«Туманность Андромеды» рассматривалась Ф. Джеймисоном в контексте «вытесненной негативности» ― невозможности цельного утопического нарратива[285][286], ― выстроенной вокруг очевидного противоречия ― неустранимого факта смерти. Наиболее травматичные и глубокие аспекты негативности связаны с теневой стороной социального устройства утопии (психиатрия и система наказаний) и выражаются в психологических мучениях героев — Дара Ветера и Мвена Маса. Эти симптомы объективируются, приобретают пространственную форму в виде «острова-тюрьмы» и удалённой станции, что приближает роман к «Утопии» Т. Мора[285][286]. Историк культуры И. Каспэ указывает на различные фигуры вытеснения: остров Матерей как тупик общественного развития или зловещая Тёмная планета как образ абсолютного ничто[285]. По мнению Каспэ, несмотря на пафос преодоления и переустройства, борьбу за окультуривание и упорядочивание, людям не удаётся победить «вредную нечисть прошлого» или «вредоносные формы жизни». Самореференция и замкнутость пространства утопии, стремление к абсолютному смыслу приводят к «антипсихологичной психологизации» текста Ефремова, к «тревожной пустоте в душе» героев (болезнь Низы Крит, схожая с депрессией Дара Ветера), к мучительному одиночеству индивида. Изолированной оказывается и Земля, чьи обитатели страдают от невозможности прямого контакта с собратьями по разуму; другие миры, как и крупицы прошлого, которые собирает человечество, выглядят бесплотными, иллюзорными отражениями Земли, фигурами забвения и беспамятства[285]. Геллер указывает на тесные связи и полемику (в частности, с идеей Пролетария-машины) Ефремова с русской утопической традицией, которую автор хорошо знал: с ранними советскими и дореволюционными утопиями Я. Ларри, В. Никольского, Н. Олигера, Куприна, Брюсова; с идеями и воззрениями Чернышевского, Белинского, Н. Пирогова, И. Мечникова, И. Сеченова[287][288]. В качестве примера прямого заимствования Геллер приводит описание космической симфонии звука и света, которая в романе обозначает победу жизни и разума над неживой материей ― связь музыки и света возникает у символистов, у А. Скрябина, присутствует в книгах Никольского и Ларри[289].
В «Туманности Андромеды» Ефремов средствами научной фантастики выразил дух времени ― «оттепель»[228]. Он сохранял элементы советского дискурса, но не занимался прославлением советской модели, а скорее попытался представить альтернативу ― описать «коммунизм с человеческим лицом» в условиях преодоления сталинизма[290][291], сконструировать из фрагментов прошлого и настоящего мировоззрение послесталинского времени, «склеить рассыпавшуюся картину мира»[292][293]. Как отмечал Геллер, писатель пытался рассмотреть все возможные проблемы, что привело к множеству клише, замене старых предрассудков и стереотипов на новые, к наивным и противоречивым рассуждениям. К примеру, Ефремов исключил из своего мира поэзию[294], юмор и комплименты[295]. Геллер писал[296][297]:
Популярность романа, особенно среди молодёжи, была очень большой. И огромно — до сих пор — её влияние на весь жанр НФ… В одной книге Ефремов нарушил сразу все запреты: запрет на постановку серьёзных вопросов и на социальную критику, на возвращение к прошлому и на взгляд в будущее, на экстраполяцию в науке и на выход в космическое пространство. Появление «Туманности Андромеды» как бы создало совершенно новый пространственно-временной континуум, в котором точками соотнесения стали Эйнштейн и Гейзенберг, Мендель и Циолковский, Фурье и Чернышевский. Всё стало возможным.
Роман вызвал ряд критических откликов. В 1959 году на страницах «Промышленно-экономической газеты» и «Литературной газеты» развернулась полемика, второе издание защищало роман[298]. «Туманность Андромеды» раскритиковали за слишком далёкую перспективу, осудили с идеологических и политэкономических позиций, назвав книгу вредной для молодёжи. Автору ставили в упрёк технократическое общественное устройство, в котором нет места рабочему классу, систему воспитания и образования. Указывалось, что люди будущего знают античную мифологию, но не помнят о Марксе и Энгельсе, героях революции и пятилеток, о роли СССР во всемирном объединении[298][299][300]. Некоторые отзывы были явно комичными — к примеру, критиковался чрезмерный эротизм[301]. Экономист А. Зворыкин в письме ЦК КПСС предложил создать научную комиссию и организовать дискуссию по роману. Отдел культуры ЦК явно симпатизировал Ефремову и спустил дело «на тормозах», ограничившись рекомендацией провести дискуссию в Союзе писателей[302]. Представительное обсуждение, на котором присутствовали Г. Арбатов, В. Захарченко и другие, вылилось в защиту «Туманности Андромеды» и обструкцию критикам. Как заключал Комиссаров, фантасты во главе с председательствовавшим А. Казанцевым проявили корпоративную солидарность[303].
Продолжением «Туманности Андромеды» стала повесть «Сердце змеи» (1958), где автор оптимистично описал первый контакт между двумя высокоразвитыми коммунистическими цивилизациями[304][305].
«Лезвие бритвы»
Задачей «экспериментального» романа «Лезвие бритвы» (1963) автор называл познание «психологической сущности» современного человека, чтобы заложить научный фундамент для «воспитания людей коммунистического общества»[306]; книга писалась четыре года[293]. В романе три сюжетные линии, которые завершаются встречей героев в Индии[307]: изыскания советского учёного и гипнотизёра Ивана Гирина, путь индийского художника к высшему познанию и приключения молодых итальянцев, отправившихся на поиски африканских алмазов. Роман получил низкие оценки советских критиков[308]. А. А. Лебедев, соглашаясь с основным посылом романа, отметил банальность ряда идей и назвал результат «эстетическим кентавром»: автору не удалось пройти «по грани» между наукой и беллетристикой, «нанять» культурные суррогаты развлекательного искусства для утверждения высоких идеалов[309]. По оценке Геллера, приключения «в хаггардовском вкусе» «невыразимо скучны», а объёмные научные рассуждения весьма сомнительны[306], однако «Лезвие бритвы» характеризовалось критиком как единственный в своём роде «советский мистический роман»[310]. Сам автор, не соглашаясь с «высоколобыми критиками», ценил и любил роман больше остальных[311].

В романе популяризировались западные концепции психоанализа[312][313], обсуждались природа красоты, определённой как «наивысшая степень целесообразности», и её значимость для духовного развития человека[314]. Гирин всю жизнь изучает «древние инстинкты» и «общественные предрассудки», которые влияют на поведение человека, в частности на представления о красоте[315]: несмотря на всю историю цивилизации, современный человек идёт по «лезвию бритвы»[316]. В одном из ключевых эпизодов романа Гирин читает лекцию о биологической целесообразности красоты (автор следует идеям Чернышевского)[314] и рассказывает о хранилище первобытного опыта ― подсознании[315]. Как полагал Геллер, писатель адаптировал понятия психоанализа, скорее коллективное бессознательное Юнга, чем фрейдомарксизм, к своей метафизике добра и зла[317].
В романе резко критикуются иудаизм и христианство за «учение о грехе и нечистоте женщины»[318][319]. Гирин осуждает средневековые костры инквизиции, положительно отзываясь о восхвалении женской красоты в Элладе и азиатском почитании матери. Как отмечал Геллер, писатель, отвергая христианство, ищет более глубинные основания духовности, чем простое возвращение к естественному (Эллада), и обращается к индийской философии: к мысли об абсолютном познании, мистическому смыслу эротики и прежде всего к идее духовного самосовершенствования[319]. Ефремов открыто пишет об эзотерике, обсуждает йогу и Шамбалу[320]. Западная позитивистская наука и восточное духовное откровение рассматриваются как два способа познания, между которыми предлагается путь по лезвию бритвы[321]. Материалист Гирин принимает мистическое знание йогов, получая от индуса подарок ― изображение всадников на мосту, которые протягивают друг другу руки. И советский учёный, и индийские мудрецы критикуют потребительство и бездуховность Запада, иерархичность и безразличие к социальным проблемам Востока; поэтому надежда на будущий синтез Запада и Востока возлагается на Россию (или «Советскую Россию», о недостатках которой умалчивается; автор избегает названий «СССР» и «Советский Союз»), ввиду её особого пограничного положения между культурами — писатель, по мнению Геллера, одним из первых возрождает русскую мессианскую идею XIX века и делает это более открыто и многогранно, чем современные ему «неославянофилы»[322][323].
«Час Быка»

Над романом «Час Быка» (в первоначальном варианте ― повесть «Долгая заря») писатель в общей сложности работал семь лет, включивших множество событий ― от полёта Гагарина в космос до возникновения движения диссидентов; С. Сергеев датирует замысел романа 1961 годом, а написание ― 1965―1968 годами[324]. Книгу отказались публиковать «Октябрь», «Москва» и «Знамя»[325], сокращённый вариант удалось напечатать в дружественной «Технике — молодёжи» (без социально-философских фрагментов[161]) и в «Молодой гвардии» (1969), отдельное издание вышло в 1970 году. «Час Быка» следует типичным образцам антиутопии, включая Дж. Оруэлла, однако антиутопическое общество описывается с точки зрения жителей коммунистической Земли[326], откуда прибывает экспедиция. На планете Торманс (планета мучений; обитатели называют её Ян-Ях) далёкие потомки землян выживают в состоянии «инферно»[327]: неограниченная эксплуатация ресурсов вызвала социальный, демографический и экологический коллапс, завершившийся установлением тоталитарной диктатуры. На планете господствует жёсткая, хотя и не наследственная, иерархия: люди разделены на страты «краткоживущих» («кжи») и «долгоживущих» («джи»). Кжи ― большинство населения ― занимаются физическим трудом и обязаны умереть в 25 лет; к джи относятся учёные, инженеры, интеллигенция. Четверо землян погибают, включая главную героиню Фай Родис, начальника экспедиции, но Торманс обретает свободу[328]. Тема демографического коллапса в контексте постапокалипсиса была новаторской для советской фантастики, аналогичные западные романы ― «Подвиньтесь, подвиньтесь» Г. Гаррисона и «Всем стоять на Занзибаре» Д. Браннера ― вышли примерно в то же время, поэтому писатель находился в глобальном тренде, хотя, возможно, использовал наработки из произведений У. Миллера (постъядерный мир), Р. Матесона (эвтаназия) и др.[329] Кульминационная сцена романа, по мнению В. Терёхина, открыто полемизирует с концовкой повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких ― перед своей гибелью Фай Родис умоляет командира корабля не мстить, не сеять на Тормансе насилие, «ненависть и ужас»[330].
«Часом Быка» автор называет XX век ― конец Эры Разобщённого Мира ― одну из худших эпох в человеческой истории[331]. Вопрос о референции тормансианского общества вызвал много споров[332], критики часто следовали объяснению в тексте, где близко связывались «муравьиный лжесоциализм» (маоистский Китай эпохи «культурной революции»[333]) и «государственный монополистический капитализм»[334]. Общество в романе можно считать сочетающим худшие черты советского социализма и западного капитализма[335]. Согласно Д. Быкову, основная идея романа в том, что коммунизм и капитализм не исключают, а дополняют друг друга ― выбор между ними ложен, поскольку оба пути могут привести к инферно[229]. Д. Володихин отмечал общую критику тупиков мегаполисной культуры[311]. Помимо глобальных проблем демографии и экологии, «Час Быка» содержит множество аллюзий на историю России ― революцию, Гражданскую войну, сталинизм, оттепель и постоттепель[К 8]: в романе цитируются Маяковский, Брюсов, Волошин, Бунин и неоднократно ― фактически запрещённый тогда Н. Гумилёв; исполняется «Молитва о пуле», написанная неизвестным офицером Российской армии в 1917 году. Описание демографической катастрофы, по мнению С. Сергеева, отсылает к огромным людским потерям СССР в ходе катаклизмов первой половины XX века[337]. Торманс имеет ряд черт советского общества[338], включая нравы и повседневность: бытовое хамство, грубость и невоспитанность; цензуру, неразвитость общественных наук и переписывание истории, в том числе абсурдные переименования в честь властителей, их безудержное восхваление; коррупцию, репрессии и пытки[339]. К дискурсу «оттепели» отсылают отождествление мещанина и номенклатурного чиновника (редкое явление в литературе того времени), дискуссионный клуб в местном научном институте и др.[340]
«Таис Афинская»

Над романом «Таис Афинская» Ефремов работал долго и тщательно, стараясь изучить все доступные ему античные[К 9] и современные источники, включая англоязычные[342]; написание заняло три года. В сокращённой версии роман публиковался в журнале «Молодая гвардия» в 1972 году. Писатель наотрез отказался элиминировать эротические сцены, согласившись убрать три главы (в итоге были полностью удалены пять); публикация завершилась уже после его смерти[343][344]. Сюжет романа разворачивается в IV веке до н. э, во время походов Александра Македонского, охватывает различные места от Пелопоннеса до Междуречья, от Афин до Мемфиса[345]. В центре произведения ― известное по античным источникам историческое событие: сожжение персидской столицы Персеполиса знаменитой афинской гетерой Таис, спутницей македонского завоевателя[346]. «Таис Афинская» сочетает философские главы и динамичные описания. Таис путешествует, обретая знания, зрелость и мудрость, ― из Афин в Спарту, через Крит в Египет, затем, с армией Александра ― в Вавилон и Экбатану. В конце романа, вернувшись в качестве царицы, жены Птолемея, в Египет, Таис отказывается от власти и отправляется в Уранополис[347]. Сожжение царского дворца символизирует уничтожение империи, основанной на иерархии и угнетении[246]. Великий полководец намеревался объединить народы Запада и Востока в гомонойе, равенстве по разуму, но не преуспел: за победой над персами последовало обычное порабощение народов[314].
«Таис Афинская», по оценке А. Бритикова, стала наиболее удачным романом Ефремова в художественном плане[314]. Книга представляет широкую панораму духовной жизни народов Средиземноморья, своеобразный свод философии, истории, искусства, религии, обрядов, быта и нравов в эпоху Александра[348], время столкновения Эллады и Азии. Автор пытался, по его словам, осветить переломный исторический момент в духовном развитии ― переход от национализма к более широкому мировоззрению, к истокам общечеловеческой морали. Эта эпоха вместила в себя судьбоносные, но малоизученные религиозные кризисы: упадок матриархата привёл к возникновению тайных верований, которые, осмысляя новые представления о вселенной и человеке, противостояли официальным религиям и уходили в «подполье»[349][348]. В последней идее усматривается интерес Ефремова к современной эзотерике ― «отвергнутому» или «альтернативному» знанию оккультных и эзотерических доктрин; Таис проходит посвящение в тайное общество орфиков и изучает тантрическое учение[350][351]. Как отмечал Геллер, в романе Ефремов не просто преклоняется перед женщиной, а боготворит её: женские героини превосходят мужчин, обладают большей силой и мудростью. «Непрерывные войны, резня между самыми близкими народами — результат восшествия мужчины на престолы богов и царей», последствие раскола между мужским и женским началом[352]. Орудия и машины заменили людям чувства и память; мужчины ослабли, утратили связь с природой и веру в себя. Женщины, напротив, сохраняют своё естество, связаны с миром, не подчиняются разуму[353].
Метод написания. Стиль
К написанию произведений Ефремов подходил как учёный, обстоятельно изучал предмет и связанные вопросы[354]. При написании «Туманности Андромеды» он долго выстраивал систему художественных деталей[355]. По собственному признанию, со времён научной работы вёл записи о проблемах и гипотезах в блокнотах, которые в шутку назвал «премудрыми тетрадями»[356]. Во второй половине 1940-х годов Ефремов стал вносить в них «литературные идеи, но не просто „голую мысль“, а ряд деталей, фактов, сведений, группировавшихся вокруг какого-то стержня»[354]. В «тетрадях» записывались наброски и готовые формулировки, планы и конспекты фрагментов[357]. Писатель рано развил свой литературный метод — начинать со зрительного представления, картины или портрета. Для стимулирования воображения собирались рисунки, открытки, фотографии, фотопортреты актёров и актрис из киножурналов, рекламные проспекты ― всё это помогало создавать образы героев и места действия[358][354]. Он говорил, что перед началом работы должен «до мельчайших подробностей представить картину и только тогда стараться описывать»[359]. Биографы описывают день писателя в 1959 году: он проводил за письменным столом десять, иногда ― четырнадцать часов, работал с 10 утра до 14, затем ― с 4―5 часов вечера до 10 или до 11. Ефремов читал, отбирал материал, заполнял «премудрые тетради», а законченный текст набирал на печатной машинке[357].
По признанию Ефремова, он писал фантастику, а не философские трактаты, поскольку у этого жанра «больше читателей»[360]; научная фантастика занимала место «натурфилософской мысли, объединяющей разошедшиеся в современной специализации отрасли разных наук»[214]. Его произведения и, в частности, «Туманность Андромеды», часто критиковали и критикуют за небрежный стиль, ходульность и схематичность персонажей, дидактизм (научно-популярные монологи и диалоги поданы в форме беллетристики)[361][362]. Отмечалось, что писательский талант Ефремова ограничивался пейзажем, живописанием природы; он удачно работал с деталями, когда описывал архитектуру, бытовые ситуации, исторические аксессуары. В его текстах постоянно фигурируют картины, рельефы, статуи, которые призваны обеспечить лучшее зрительное восприятие. Достоверность и искренность произведений (например, в описании походного быта) проистекали из жизненного и профессионального опыта, многие персонажи имели реальных прототипов[363][364][365]. При переходе от частного к общему, к изложению собственных концепций или описаниям коммунистического общества становились заметными, по выражению Геллера, «неточность языка, неестественность ситуаций, слащавые образы, патетические мелодекламации»[366]. А. Бритиков в обсуждении «Туманности Андромеды» отметил, что речь автора «местами ходульна и расцвечена красивостями»[367][368]. В защиту писателя утверждалось, что скучные книги не снискали бы такой популярности[369]; высокопарность и вычурность речи (которых нет в ранних произведениях) не столько являются недостатком писательского мастерства, сколько вытекают из симпатий автора к античности, к жанру трагедии[370], из серьёзности ефремовского мировосприятия[371].
Remove ads
Интересы, круг общения и переписка
Суммиров вкратце
Перспектива

Всю жизнь Ефремов был заядлым книголюбом[14]. Э. Олсон считал, что широкий кругозор (например, глубокие познания в культуре и истории США) и необычные повороты его мысли следовали из читательской всеядности, контекстом которой были разночинское социальное происхождение и жизненный опыт ― геологические экспедиции и ранняя морская романтика[372]. Со школьных лет он знал немецкий язык и изучил английский, готовясь к монгольским экспедициям; знанию языков учёный придавал большое значение в науке[373]. В начале 1950-х годов Быстров в шуточном стихотворении описал своего друга как «иностранца в душе», модника и англомана[208]. Книги, интересовавшие писателя, как правило, отсутствовали в СССР, поэтому он составлял длинные списки для своих друзей в разных странах, которые безвозмездно разными способами пересылали ему книги. Часть посылок не достигала адресата из-за цензуры или ошибок почты, но его квартира, по оценке Олсона, была завалена книгами на множестве языков[374]. Темы варьировались от истории Древнего Египта, древнегреческой философии и ориенталистики до приключенческих и морских романов (но не детективов), эротики и «вульгарных» жанров[375]. По воспоминаниям Э. Олсона, в библиотеке наличествовали «1984», «На берегу», «Страсти по Лейбовицу», «Дарвин и обнажённая леди» А. Комфорта, Платон, Аристотель, Фома Аквинский, Б. Рассел, произведения Д. Конрада, А. Маклина, З. Грея, комиксы про Микки Мауса, журналы с обнажёнными женщинами и др.[376] Дома у писателя висела копия центральной части картины Г. Семирадского «Фрина на празднике Посейдона в Элевзине»[К 10]. В своих произведениях он предпочитал описывать Африку, Древнюю Грецию, Индию[378][К 11], хотя ни Африку, ни Индию ему так и не удалось посетить[380]. Африка, по словам писателя, «в разные периоды жизни интересовала меня по-разному, но никогда не выходила из сознания»[381][382] и виделась как остров первобытности посреди современной цивилизации, анклав, где «животный мир, и растения, и люди хранят в себе черты далёкого прошлого планеты»[380][383]. Ефремов хорошо знал и ценил англо-американскую фантастику[384], в одном из писем он советовал читать Р. Желязны и Д. Браннера[385]. По воспоминаниям Олсона, Ефремов любил гимнастику и балет, но не контактный спорт[386].
Ефремов вёл обширную переписку. После публикации «Туманности Андромеды», ввиду большого количества писем от читателей, ему пришлось установить почтовый ящик нестандартного размера[387][388]. В его близкий круг среди учёных входили морфолог, анатом и художник-график А. Быстров, антрополог М. Герасимов, художник Н. Яньшинов (иллюстратор большинства научных работ Ефремова), скульптор и реставратор Я. Эглон, препаратор М. Лукьянова[389]; ученики — палеонтологи П. Чудинов и А. Рождественский[390]. В разные годы Ефремов переписывался с зарубежными палеонтологами Ф. Хюне, А. Ромером, Д. Уотсоном, Э. Олсоном[391][392]. С Олсоном его связывала многолетняя дружба, американский учёный несколько раз приезжал в СССР между 1959 по 1971 годами[393]. Из писателей Ефремов общался с А. Казанцевым, О. Бердником, С. Ахметовым[390], главным редактором журнала «Техника ― молодёжи» В. Захарченко, который высоко оценивал его произведения[394]. С конца 1950-х годов он дружил с ленинградским писателем В. Дмитревским и литературоведом Е. Брандисом; особенно близкие отношения сложились с ровесником Дмитревским[395]. Среди других корреспондентов — зоолог И. Пузанов[396], литературовед А. Бритиков, писатели-фантасты А. Кларк и П. Андерсон, писатель и журналист Ж. Бержье[397], «атлантолог» Н. Жиров[398]. По всей видимости, Ефремов поддерживал контакты с некоторыми деятелями советского эзотерического подполья ― Ф. Веревиным и А. Арендт, которая в 1958 году познакомила его с Ю. Рерихом[399][400]. По воспоминаниям С. Ахметова, Ефремов не выносил панибратства и чаще всего общался на «вы» и по имени-отчеству, делая исключения только для Эглона, которого знал с 1925 года, и Лукьяновой[401].

В начале 1960-х годов Ефремов сблизился с братьями Стругацкими, писатели высоко оценивали произведения друг друга, А. Стругацкий в переписке уважительно называл его «чифом». Ефремов всячески содействовал соавторам, читал их рукописи ― по его совету «Рэбию» заменили на «Рэбу». Он также пытался опубликовать «Трудно быть богом» в «Новом мире»[402][403]. Образ Фёдора Симеоновича Киврина в повести «Понедельник начинается в субботу» (1965) является дружеским шаржем на Ефремова[404]. В начале 1966 года писатель защищал Стругацких от нападок[405], однако вскоре отношения ухудшились: он крайне отрицательно воспринял «Улитку на склоне» и «Сказку о Тройке» как «кафкианство», «мелкотравчатое возмутительство», считая, что соавторы «лезут в дешёвые прогрессисты» (1966)[406][407]. В интервью «Молодой гвардии» (1969) Ефремов обвинил Стругацких, что они наделяют человека будущего сегодняшними чертами; братья восприняли это как предательство, поскольку против них уже велась идеологическая кампания[408]. До смерти Ефремова отношения частично нормализовались — примирение инициировал, видимо, Борис[409]. Помимо обстоятельств личного плана (Ефремов мог завидовать их популярности у молодёжи)[410] и усилий «доброжелателей» (распространялись слухи о взаимном плагиате «Часа Быка» и «Обитаемого острова»)[411], между писателями были поколенческие различия[412] и, главное, возникли глубокие разногласия, связанные с дифференциацией советской интеллигенции во второй половине шестидесятых ― если Ефремов дистанцировался от либерального лагеря и выказывал симпатии к традиционализму, то Стругацкие выбрали западный проект[412][413]. В 1998 году Б. Стругацкий так оценил Ефремова[414]:
Это был воистину «матёрый человечище» — гигант мысли, великий эрудит, блистательный рассказчик и бесстрашный боец… Конечно, писателем он был неважным, да он и сам… считал себя в первую очередь философом, мечтал писать трактаты и «Диалоги» в манере древних.
Remove ads
Мировоззрение
Суммиров вкратце
Перспектива
Ефремов принадлежал к первому поколению советской интеллигенции, поколению двадцатых годов, наряду с Королёвым, Курчатовым, Александровым, Шолоховым, Твардовским, Герасимовым и другими ― родившимися в 1900-е годы выходцами из средних слоёв, которые стали духовными лидерами в своих областях деятельности. Их становление было отмечено влиянием Серебряного века, катаклизмами революции и Гражданской войны и относительной свободой в период нэпа. Принадлежность к этому поколению была важна и для самого Ефремова[34][415].
Синтетическое мировоззрение Ефремова соединяло утопизм левого толка, эволюционизм, научный рационализм, эзотеризм и гуманизм; среди противоречивых влияний ― евгеника и мистический анархизм, ницшеанство и теософия, индуизм и буддизм[416][417]. Как отмечали Брандис и Дмитревский, его произведения — взаимосвязанные «звенья одной цепи»[418][419], они затрагивали ряд этических, социальных и философских проблем; писатель реконструировал античность, анализировал современность и выстраивал футурологические модели. Ефремов декларировал приверженность коммунизму[420], однако его отношение к советской действительности было весьма критическим[421][251], а его книги нередко пропагандировали нестандартные для советской культуры смыслы и ценности. Социальные идеалы Ефремова ― значимость экзистенциальных проблем, ценность индивидуальности, изменчивость и плюрализм мышления и культуры[420]; его главные темы ― поиски диалектического равновесия и источников знания, идеальный коммунизм, утверждение разумности человека, счастье как целеполагание, история, героизм и эротизм[422]. Согласно Геллеру, мировоззрение писателя построено на «нравственных и метафизических основаниях самосовершенствования, долга перед прошлым, борьбы добра и зла в человеке, в обществе и во вселенной»[423][424].
В космогонии Ефремова человек — единственное разумное существо во вселенной, любые иные мыслящие существа не должны отличаться от человека. Человек воплощает жизнь и «антиэнтропию мира», противостоит злу, страданиям и смерти; лишь человек может остановить бесконечную «игру слепых стихийных сил», победить «косную, неживую материю» ― через объединение человечества, распространение разума, этическое освоение космоса, целесообразное и всестороннее переустройство мира, победу над временем и пространством[285][425]. Э. Олсон характеризовал взгляды Ефремова как смешение советской диалектической философии, строгого материализма и веры в социальный утопизм как конечную цель[426]. Как полагал Геллер, хотя в своих книгах Ефремов много и охотно рассуждает о диалектике, его понимание истории не имеет никакого отношения к официальному советскому марксизму: это не монизм, а манихейство, традиционная дуалистическая метафизика — в его вселенной нет полутонов, идёт вечная борьба между силами жизни и смерти, энергии и энтропии, добра и зла; Ормузд противостоит Ариману, Эллада ― Египту, Шакти ― Тамасу. В отличие от диамата, мыслитель тяготеет к универсальным, абсолютным категориям, отрицает эволюционный переход от смерти к жизни, от чёрного к белому, от неживой к живой материи. Мир «Туманности Андромеды» не является диалектическим синтезом двух тенденций, а представляет собой победу света и добра над тьмой и злом, которые ранее одерживали верх[427]. Ефремовский «коммунизм» напоминает скорее платоновскую[420] или фурьеристскую[428][296] модели общественного устройства, чем Маркса[296] и советскую идеологию[420]. Социальная эволюция ― переход от архаики и Эры Разобщённого Мира через Эру Мирового Воссоединения, Общего Труда к Эрам Великого Кольца и Встретившихся Рук ― оказывается «историей духовных ценностей, процессом перестройки сознания», а не изменениями в материальном базисе или борьбой классов[429][420].
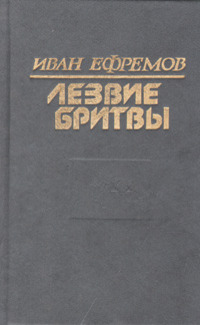
Ефремов верил в добрую природу человека и считал, что создание правильного общества позволит раскрыть (через коммунистическое воспитание) положительные качества и интеллектуальные способности всех людей[430][431]. Тем не менее писатель размышлял о трагичности бытия и краткости существования человека в масштабах исторического времени и межзвёздных пространств[432]. Уже Дара Ветера преследовали «приступы равнодушия к работе и к жизни», а перед Гириным «витала тьма, сгущавшаяся в непроницаемый мрак»[430]. Мвен Мас решается на рискованный эксперимент не ради прогресса, а из чувства долга перед прошлым, с которым его связывает незримая нить: он вспоминает миллионы безымянных могил, миллиарды умерших, когда-либо живших на Земле, которые «взывают», «укоряют» и «требуют» победить время[433][285][432]. Гирин ощущает ответственность за страдания в ходе эволюции всех существ, вплоть до амёбы[433]. В идее ответственности перед прошлым, этике жизни и смерти Геллер усматривает влияние русской религиозной мысли XIX века — Ефремов практически повторяет супраморализм Н. Фёдорова, философию «воскрешения отцов»[434][428][К 12]. Ефремов не был столь радикален, как Фёдоров, не утверждая необходимость физического бессмертия всех когда-либо живших существ[265]. Как полагает Каспэ, до победы над смертью человечеству остаётся коллективное бессмертие — выживание как вида и историческая память[285].
В романе «Час Быка» писатель обобщает свои взгляды. Согласно концепции инферно, развитие жизни и социума на Земле представляет собой ад — «страшный путь горя и смерти», который может длиться вечно; цена эволюции ― мириады погибших существ. С развитием организмов страдания возрастают — человек страдает и душой, и телом[436][437]. Инферно включает биологический (естественный отбор), психический (первобытные инстинкты), социальный (война всех против всех) и политический (самоизоляция диктаторских режимов) уровни[438]. Крайняя тенденция инфернальности — Стрела Аримана, всеобщий закон усреднения, который способствует распространению зла, уничтожению прекрасного и возвращению на низшие уровни ада. Круговорот зла в природе воплощает образ змеи, вцепившейся в свой хвост ― в этом «величайшая загадка жизни и её бессмысленность», поскольку всё живое обречено на гибель[437]. Как полагал С. Сергеев, концепция соединяет буддистскую этику (тезис о страданиях и смерти всего живого) и эволюционную биологию[439]. Как отмечал Геллер, это не просто метафизика, а теодицея в широком смысле, рассмотрение вопроса о природе зла[437].

По воспоминаниям Олсона, Ефремов ненавидел насилие и был убеждён, что искусство и науки о сознании и духе способствуют созданию общества, в котором больше не будет стимулов для насилия и агрессии. Он считал своим призванием донести до читателей эти идеи, напоминавшие Олсону сказку Ф. Баума о стране Оз[386]. Политическое насилие у Ефремова символизирует бык, которого побеждают его герои: критская девушка в повести «На краю Ойкумены», Дар Ветер в «Туманности Андромеды»[440]. На протяжении истории «невежеству и жестокости» инферно противостоят «золотые нити чистой любви, совести, благодатного сострадания, помощи и самоотверженных поисков»[420]. Выход из инферно ― создание «могучего бесклассового общества из сильных, здоровых и умных людей» через отказ от искусственных социальных барьеров и привилегий, значительное увеличение расходов на образование и медицину[441]. Как полагают Сергеев и С. Кузьмина, холистический проект Ефремова (который он, видимо, считал мировоззрением будущего[442]), в отличие от идей политической конвергенции либерального крыла советской интеллигенции (А. Сахаров), пытался соединить европейский модерн, российскую культуру и советский коммунитаризм (без репрессивных аспектов) на основаниях «общечеловеческой» эзотерической духовности[443]. Поэтому писателя привлекали холизм русских символистов и «эгалитаристские» версии оккультизма (Е. Блаватская, теософия, Р. Штейнер), хотя он критически относился ко всем эзотерикам[444][445]. Современные мифы об исчезнувших континентах и цивилизациях и идеи о связях древних культур интересовали Ефремова в той степени, в какой давали надежду на будущее объединение человечества, на преодоление «разобщённости» мира[446].
Задача борьбы с инферно возлагается на искусство[447] и духовное самосовершенствование, которые приводят к изменению общества[448]. Искусство показывает «красоту, мечту, идеал несостоявшегося, но возможного»; этот подход частично сближает Ефремова с Г. Маркузе[447]. Искусство не может быть самодостаточным и абстрактным, а должно выполнять воспитательную, назидательную функцию, служить образцом. Долг художника ― говорить о прекрасном и возвышенном, улучшать общество, а не демонстрировать человеческие пороки[447][366]. Поэтому Ефремов не признавал модернистское искусство (хотя его кумирами были поэты Серебряного века — В. Брюсов, Н. Гумилёв и М. Волошин), натурализм и гротеск; не принимал Достоевского, Джойса, Кафку и Пикассо, а предпочитал Паустовского, Грина и ориентализм Хаггарда[449]. Интерес писателя к античной культуре, по всей вероятности, сформировался в двадцатые годы, когда к этой теме (через Ницше) обращались представители Серебряного века ― И. Анненский, Волошин, Ф. Зелинский, Вяч. Иванов. К «Рождению трагедии» явно восходят дихотомия «светлая» античность ― «тёмное» христианство и тематика древних дионисийских культов. С тем же периодом связан частый в книгах Ефремова мотив танца (свободный танец А. Дункан)[450]. Ницшеанские мотивы, особенно идея сверхчеловека, в сочетании с ориентализмом, воспринятым у Хаггарда, повсеместны в творчестве писателя ― от раннего рассказа «Белый рог» до «Лезвия бритвы» и «Таис Афинской»[451].

Особое место в мировоззрении Ефремова занимает эротика, понимаемая, по мнению Геллера, как путь к красоте и познанию. В «Часе Быка» богатство психики связывается с «эротической остротой чувства», а половое созревание отождествляется с «величайшей силой организма». В романах писателя фигурируют прекрасные и сильные женщины, которые часто обнажаются и обсуждают достоинства свободной любви[452]; по характеристике М. Галиной, они «активны, независимы, свободны и физически совершенны», эмоционально и интеллектуально развиты[453][454]. Женщина ― «самое прекрасное создание природы»[314] ― воплощает совершенство и красоту, несёт в себе творческий дух; по мнению Геллера, преклонение Ефремова перед женщиной напоминает утопизм Белинского, Фурье, Чернышевского, обожествление женского начала (Софии) у Вл. Соловьёва[353]. Поскольку красота является высшей ценностью и одним из проявлений светлого начала, любовь к женщине приближает и к абсолютному познанию. Отсюда интерес Ефремова к Индии, где он находит представления о мистическом смысле эротики[319].
Позднему Ефремову был свойственен социальный пессимизм[279] на фоне постоянных недомоганий и депрессии[430]. В письме к Олсону[К 13] Ефремов писал о «взрыве безнравственности», более опасном, чем ядерная война, — причине распада всех империй и государств. После исчезновения поколения, «воспитанного жить честно», через двадцать лет «придёт величайшим бедствием в истории за всю историю человечества техническая монокультура»[455][456] ― равенство худших[457]. По мнению Олсона, как коммунист в широком смысле Ефремов видел истоки советской аморальности в сталинских чистках, которые уничтожили всю интеллигенцию и оставили вакуум для необразованных и пассивных[458]. По мере отдаления от академических учреждений Ефремов всё критичнее относился к жёсткому позитивизму современной науки, её раздробленности и аморальности (ответственность учёных за ядерное оружие): «наука убога»[459][460], учёный из искателя истины превратился в чиновника[461]. Согласно реконструкции Олсона, Ефремов считал, что западная наука с её формализмом и бездуховностью представляет собой один большой миф, антропоцентризм писателя не согласовывался ни с социобиологией, ни с «научным креационизмом»[462]. Его критика технократизма и рационализма имела сходство с позициями движения нью-эйдж; по всей вероятности, мыслитель поддерживал запрет на разработку оружия, на опыты над животными, считал необходимым отказ от киборгизации и создания искусственного интеллекта. В его версии будущего приоритет отдавался гуманитарным дисциплинам, истории, которая понималась как эмпатическое сопереживание прошлому в духе Р. Коллингвуда[463].
Ефремовские идеи, сочетавшие идеалы эгалитаризма и социального утопизма с ницшеанством, были артикулированы в период «оттепели» как полемика с теорией и практикой сталинизма, однако мировоззрение писателя, сложившееся в 1920-е годы, в 1950-е и 1960-е годы, по оценке Сергеева, не претерпевало сильных изменений[464]. Согласно реконструкции исследователя, ко второй половине 1960-х годов, когда «прогрессистская» интеллигенция начала дифференцироваться на либералов и националистов, оказалось, что взгляды Ефремова как левого мыслителя европейского толка, уходившие корнями в интеллектуальную атмосферу 1920-х годов, с мечтой о коренном преобразовании общества, не соответствуют ни одной из формировавшихся идеологий[К 14], но перекликаются с ними по отдельности. Его аскетический эгалитаризм совпадал с официальной идеологией, важность духовности и романтики ― с почвенничеством, антитоталитаризм, неприятие государственного насилия и подавления сексуальности — с либерализмом. От либералов Ефремова отделяли антиурбанизм, антипотребительство и отсутствие снобизма по отношению к народу; от почвенников ― неприятие милитаризма, этатизма и изоляционизма[466][467], интерес к эросу[428]. Его взгляды на искусство тоже выходили за рамки идеологической конфигурации в СССР[468], хотя реализм и дидактизм совпадали с классическими утопистами и стандартами соцреализма (писатель следовал тезису Чернышевского, что «прекрасное есть жизнь»[314]) и способствовали его «канонизации» советскими критиками[366]. Сергеев, оценивая размышления Ефремова о глобальных проблемах и роли науки в современном мире, его попытки примирить технологии и духовность, Запад и Восток, обнаруживал переклички с идеями Римского клуба, с философами Франкфуртской школы, взглядами О. Хаксли и А. Солженицына[468]. Как считал Геллер, несмотря на обращение к древним культурам (Элладе и Индии), Ефремов как мыслитель полностью принадлежит русской традиции[448].
Remove ads
После кончины
Суммиров вкратце
Перспектива

Иван Ефремов умер в Москве 5 октября 1972 года на 65-м году жизни от сердечной недостаточности. Согласно завещанию, урна с прахом захоронена на кладбище в посёлке Комарово под Ленинградом[469][470][К 15]. Некрологи на кончину писателя были опубликованы в еженедельниках «Литературная газета»[472] и «Литературная Россия»[473].
Спустя месяц после смерти писателя работники КГБ СССР провели в его квартире обыск с изъятием документов и личного архива. Обстоятельства этих событий остаются не прояснёнными[474]. В начале 1990-х годов в прессе стали обсуждаться длительная оперативная разработка Ефремова со стороны КГБ и последовавший обыск[475]: в публикациях писателя А. Измайлова[476], бывшего сотрудника КГБ В. Королева[477], бывшего главного редактора «Техники — молодёжи» В. Захарченко[478] и других, а позднее — в статье Н. Петрова и О. Эдельман[479]. Все эти публикации ссылались друг на друга, на участников событий и родственников писателя: придерживаясь общей линии, они излагали крайне противоречивые[480] и нелепые версии[481]. Согласно публикациям, спецслужбы считали, что настоящий Ефремов был убит и подменён английским шпионом; по утверждению Королева, разработку вёл генерал В. И. Алидин, действия которого курировал глава Пятого управления КГБ Ф. Д. Бобков[482]. По материалам надзорной проверки прокуратуры, КГБ возбудил уголовное дело 22 января 1973 года «в связи с возникшими подозрениями относительно обстоятельств смерти»; дело было прекращено 4 марта 1974 года «за отсутствием события преступления». Как отмечают исследователи, обоснование обыска подозрениями в насильственной смерти писателя выглядит неубедительным[479][483]. Комиссаров допускал, что КГБ ввёл в заблуждение прокуратуру, и заключал, что отсутствие надёжных источников откладывает прояснение вопроса[484].
Некрологи о Ефремове сняли из ряда журналов («Палеонтологический журнал»[485], «Техника — молодёжи»[486] и др.), было приостановлено издание шеститомного собрания сочинений[486] в «Молодой гвардии»; его имя некоторое время не упоминалось в печати и научных работах. По оценке Чудинова, период замалчивания продолжался с конца 1972 до 1975 года. Накануне XX сессии Всесоюзного палеонтологического общества, состоявшейся в феврале 1974 года в Ленинграде и посвящённой тафономии, были сняты доклады про учёного, о нём отсутствовали упоминания в напечатанных тезисах 34 докладов (возможно, инициатива исходила от местных организаций)[487][469]. Разгорелся скандал, несколько учёных Москвы и Ленинграда направили письма в ЦК КПСС в защиту памяти Ефремова[488]; в 1976 году в Москве была создана комиссия по творческому наследию (Казанцев[К 16], Брандис, Чудинов), а весной 1977 года в Союзе писателей отметили юбилей Ефремова[489].
В 1975―1976 годах в результате читательской кампании (на имя Демичева пришло коллективное письмо) вышел неполный трёхтомник Ефремова в четырёх книгах. Составителем выступил С. Жемайтис. В корпус текстов не был включён роман «Час Быка»; не вошла в это собрание и «Таис Афинская», возможно, по воле автора, который незадолго до кончины писал Е. П. Брандису, что издание должно включать только вещи, «имеющие прессу». В 1976 году в том же серийном оформлении «Таис Афинская» всё-таки была напечатана, но без номера книги и тома. Стандартным в дальнейшем сделалось пятитомное собрание сочинений, выпущенное «Молодой гвардией» в 1986—1989 годах (пятый том в трёх книгах); в первом томе было воспроизведено послесловие к изданию 1975 года Е. Брандиса. В 1992 году было подготовлено шеститомное издание «Современного писателя», отличавшееся тем, что текст «Таис Афинской» в нём анонсировался как впервые выпущенный в авторской редакции. Вероятно, это была рукопись, поданная изначально в журнал «Молодая гвардия»[490][491].
В 2007 и 2008 годах в журнале «Студенческий меридиан» были опубликованы две художественные работы: рассказ «Каллиройя» (написан около 1946 года), частично использованный в «Таис Афинской», и повесть «Тамралипта и Тиллоттама» (1954), некоторые фрагменты которой вошли в «Лезвие бритвы»[492][493]. Рукописи и большинство читательских писем хранятся в Личном фонде И. А. Ефремова в Пушкинском Доме РАН[494].
Память

В честь Ефремова были названы позднемеловой теропод Tarbosaurus efremovi, открытый в Умнеговь (Монголия)[495], малая планета (2269) Ефремиана[496], открытая 2 мая 1976 года астрономом Н. Черных, примитивные терапсиды Syodon efremovi[497] и ивантозавр (лат. Ivantosaurus ensifer) ― «Ивана Антоновича ящер», открытый П. Чудиновым в 1983 году[498], минерал ефремовит[499], найденный в 1985 году. К 80-летию писателя были организованы первые литературные конференции ― всесоюзные ефремовские чтения, состоявшиеся в Николаеве в 1988 году, учреждены литературная премия по фантастике (1987) и клуб научной фантастики его имени[500][222]. В XXI веке ежегодные чтения проходили в посёлке Вырица, на базе местной библиотеки, носящей имя Ефремова, а также в Москве (организаторы — сотрудники сайта «Нооген»). По материалам чтений в Вырице издаются сборники. В вырицкой библиотеке энтузиасты создали небольшой музей[501][500], в посёлке именем писателя названа улица. В 2016 году Краснодонская улица в Бердянске была переименована в улицу Ивана Ефремова[502]. 25 апреля 2017 года в Москве на доме, где в 1935—1962 годах жил Ефремов (Большой Спасоглинищевский переулок, д. 8), открыта мемориальная доска (автор — художник И. Коржев)[503]. В 2019 году новый вид рода Mesenosaurus из артинских отложений Оклахомы назван Mesenosaurus efremovi, в честь Ефремова, описавшего род и первый вид (M. romeri) в 1938 году[504].
Remove ads
Восприятие
Суммиров вкратце
Перспектива
Феномен Ефремова рассматривается в контексте эволюции отечественной интеллигенции. Можно говорить о двух Ефремовых: один — крупный учёный и организатор науки, заведующий лабораторией в академическом учреждении, орденоносец и лауреат Сталинской премии; другой — писатель-фантаст периода оттепели, получивший огромную популярность, романтик и новатор, который привнёс лиризм и эротизм в советскую приключенческую литературу[505][506].
Произведения Ефремова формировали мировоззренческие установки тех поколений интеллигенции, чья юность пришлась на 1960-е и 1970-е годы[420]. В силу двойственного положения он выполнял важную роль связующего звена между «физиками» и «лириками» ― представителями научно-технической и гуманитарной областей. Его книги знакомили читателей с современной западной общественной мыслью, влияли на социальное воображение интеллектуалов ― в советской действительности 1960-х годов социальный анализ и прогнозирование в рамках научной фантастики давали возможность критиковать прошлый тоталитаризм и предлагать альтернативные варианты будущего[507][508]. Формальная легитимация его произведений фактически позволяла читателям знакомиться со многими нежелательными и часто запретными темами и чувствовать себя свободными от официальной идеологии, не становясь диссидентами[420]. Олсон считал Ефремова одним из «великих космических мечтателей», наряду с такими авторами, как Рэй Брэдбери, Артур Кларк, Карл Саган, Стивен Гулд и Айзек Азимов; писательство было его бегством в мир героики и романтизма, поскольку в СССР научная фантастика давала возможность наиболее свободно выражать свои мысли[509]. Ефремов стал одним из немногих мыслителей советского времени, которой сумел обнародовать собственную концепцию, существенно расходившуюся с официальной доктриной[369].
Ефремов-учёный

Ефремов ― наиболее знаменитый советский палеонтолог позвоночных[186], с его именем связываются три десятилетия развития этого направления в СССР[510]. Среди его научных достижений ― разработка положений тафономии и первые советские исследования в пустыне Гоби (1946—1949), принёсшие уникальные открытия остатков динозавров, коллекции которых составляют золотой фонд московского Палеонтологического музея[510]. Монгольские экспедиции во многом благодаря усилиям учёного стали наиболее результативными отечественными экспедициями первой половины XX века[511], хотя технически они были слабо оснащены и малочисленны[512].
Учёный считается одним из основоположников современной тафономии, он дал определение отрасли и очертил её границы[513][514]. Ефремов (1940) одним из первых увязал состав костных остатков с анализом поверхностных модификаций и химического состава костей, а также с анализом образования геологических местонахождений[515]. Его точное определение тафономии стало первым, которое полностью соответствовало современным научным стандартам, поскольку включало диагенетические, биостратиномические и некролитические факторы и их влияние на сохранность остатков как локально, так на уровне изменений континентов[514]. Однако вопросы и методы не были новыми, что признавал и сам Ефремов, пытавшийся объединить уже существовавшие концепты[189][188][К 17].
В 1950-е годы его тафономия не привлекала внимания на Западе[518] и получила известность во многом благодаря Олсону[517][191], на работы которого существенно повлияла, как и на палеонтологию позвоночных в целом[514]. В 1960-х — 1970-х годах интерес к тафономическим проблемам возрос более или менее независимо в рамках традиционных разделов палеонтологии, появилось много работ по позвоночным и беспозвоночным[514][519][520][195], позднее ― в палеоантропологии (с 1970-х годов), биоархеологии и криминалистике (с 1980-х годов), хотя Ефремов не предугадал применение своих идей[521][515][197]. Ефремовских «законов» тафономии выявлено не было[522][523]; отмечалось, что он не смог объединить различные исследования в одну область[514]. Важная для учёного проблема исчезновения информации в окаменелостях (неполнота) не без его влияния[524] была центральной в тафономии до конца 1980-х годов, затем подход изменился на противоположный, на первый план вышел вопрос сохранения информации. Дебаты о данной проблеме, включающие различные точки зрения на место и роль в ней Ефремова, продолжались в начале XXI века[525][526][195].
Ефремов-писатель
Отмечалось, что Ефремов описал многие проблемы начала XXI века: перенаселение, демографический переход, региональную специализацию в условиях глобализации, ограничение темпов роста («Туманность Андромеды»)[527]; его представления о повышении качества жизни через снижение рождаемости, отказ от эксплуатации природных ресурсов («Час Быка») совпадали с идеями, на основе которых позднее возникла концепция устойчивого развития[528]. Первым из советских фантастов он обратился к эротике, к проблеме эроса в культуре, пропаганде свободной любви; всерьёз воспринял проблематику гендера и затронул социокультурные стереотипы. Неоднократно отмечались его близость к феминизму, поддержка независимости женщины и гендерного равенства[529][428][530][453]. Достаточно уникальным в послевоенной советской литературе было обращение к подсознанию, начатое в «Лезвии бритвы» и продолженное в «Часе Быка» и «Таис Афинской»[531][К 18]. Романы Ефремова, включавшие идею Великого Кольца, резонировали с процессами деколонизации и появлением движения неприсоединения[532].
Публикация «Туманности Андромеды», по распространённой оценке, стала поворотной вехой в истории советской научной фантастики[367][368], обозначила начало её «золотого века». Писатель отошёл от фантастики «ближнего прицела» и написал масштабную социально-философскую утопию, сделавшую его живым классиком жанра НФ[533]. Роман стал самой известной и детальной коммунистической утопией, которая имела переклички с «построением коммунизма» в программе КПСС 1961 года[534] и понималась читателями в контексте квазирелигиозной «веры в будущее»[285]. Это восприятие выразил авиаконструктор О. Антонов: «Ради такого будущего стоит жить и работать»[535][285]. Ефремовское «открытие будущего» ― трансцендентного и недостижимого пространства, равноудалённого от повседневной жизни, нормативных образцов и раннесоветских утопий ― привлекло к коммунистической футурологии максимально широкий круг читателей[285].

Наибольший читательский успех писателя и его литературное и идейное влияние пришлись на рубеж 1950-х ― 1960-х годов[536], взлёт популярности был отмечен и в позднесоветское время[369]. По оценке П. Чудинова, на 1994 год книги Ефремова выдержали свыше четырёхсот переизданий на русском языке и за рубежом, их общий тираж на родине превысил 20 миллионов экземпляров[537]. В постсоветской России, по некоторым оценкам, его аудитория существенно сократилась (частью в силу объективных изменений на книжном рынке), а в начале XXI века книги Ефремова читают мало, хотя они регулярно переиздаются[361][311]. Восприятие затрудняли эзопов язык и склонность к излишней «шифровке» идей, которые сознательно искажались автором, а также свойственное утопистам стремление охватить слишком много вопросов. Эти черты позволяли вырывать из наследия Ефремова отдельные идеи, что приводило к идеологическим манипуляциям[538][539][540]. Наследие писателя после его смерти часто помещалось в контекст правого дискурса: консерватизма и русского национализма, включая неоязычников и радикалов (например, трактовка «Часа Быка» в русле русской «космической расы» будущего); левые меньше обращались к Ефремову[541]. В 1970-е годы часть советских фантастов, печатавшихся в «Молодой гвардии», сформировала «школу Ефремова», близкую к националистической «русской партии»[542]. Если в советское время поклонники находили в произведениях писателя коммунистические идеалы, то в постсоветской России он превратился в апологета «Агни-Йоги». В XXI веке его творчество часто обсуждали сетевые «тролли», поклонники-энтузиасты и дилетанты, которые преувеличивали ту или иную сторону в наследии Ефремова[540][543].
О Ефремове часто писали в советское время[536], хотя намного меньше, чем, например, об А. Беляеве[544]. Первые работы появились в 1960-е годы, позднее писателя официально причисляли к корифеям советской литературы[214]. Одной из лучших работ о Ефремове можно считать очерк «Через горы времени» Е. Брандиса и В. Дмитревского (1963)[536], хотя и написанный в условиях цензуры и идеологического контроля. Помимо биографии Ефремова авторы рассмотрели и контекст — историю утопического жанра и советской фантастики[545]. Брандис и Дмитревский, как и позднее А. Бритиков (монография «Русский советский научно-фантастический роман», 1970), считали писателя убеждённым сторонником коммунизма, отмечали его романтизм и сциентизм. Тезис о «последнем коммунисте» и авторе «последней коммунистической утопии» повторялся в 1990-е годы, но в негативном контексте (оценка В. Ревича, критиковавшего Ефремова с либеральных позиций)[546][547][548]; в книге «Перекрёсток утопий» (1998) Ревич утверждал, что создать настоящую утопию писателю помешали «коммунистические предрассудки»[549]. Вышедшая в 1987 году работа «Иван Антонович Ефремов» палеонтолога П. Чудинова в основном рассматривала его научные достижения. В 1990-е и 2000-е годы интерес к писателю снизился[545], о нём издавалось мало научных работ[544]. В XXI веке к Ефремову обращались филологи и представители различных обществоведческих дисциплин[369] ― философ и историк И. Каспэ, литературовед В. Терёхин, филолог Е. Агапитова, политолог В. Ковалёв и др.[550] Из зарубежных авторов о Ефремове писали Ф. Джеймисон, Д. Сувин, Л. Геллер, первым обративший внимание на мистицизм, эротизм, антитоталитаризм в его произведениях[551]. По оценке Геллера[424], Ефремов
…написал исторические повести, в которых выражал протест против тоталитарного режима и предвосхищал главные темы оттепели. Он написал первую и последнюю в послевоенной советской литературе настоящую утопию; самую детальную и всестороннюю антиутопию; большой роман о мистическом общении с миром и о связи культур Запада и Востока. Этого достаточно, чтобы войти в историю литературы (а не только историю НФ), особенно же там, где подобных книг не было в течение десятилетий, а значение книги зачастую определяется не её литературными качествами, а её отношением к господствующим штампам.
В 2013 году в серии «ЖЗЛ» вышла книга О. Ерёминой и Н. Смирнова «Иван Ефремов» (2-е издание — 2017). Авторы обработали множество биографических сведений и ввели в оборот ряд новых фактов, О. Ерёмина в 2016 году опубликовала переписку Ефремова, включающую 1275 писем. Биография подверглась критике за стиль, пристрастность и преувеличение значимости Н. Рериха и «Агни-Йоги» в творчестве писателя ― авторы в значительной мере приписали Ефремову собственные взгляды[552][553][547][554]. В монографии С. Сергеева (2019) впервые были профессионально и систематически проанализированы социально-политические и философские воззрения писателя[369], включая их «тёмную сторону»[361]. Как отмечал В. Ковалёв, анализ наследия Ефремова ещё не закончен[К 19], однако оно вряд ли будет подвергнуто радикальной ревизии ввиду полноты имеющихся материалов[536]. В 2024—2025 годах переписка Ефремова была переиздана в трёх томах («Наука», «Литература» и «Жизнь»; составители — Ерёмина и Смирнов), в которые вошли практически все сохранившиеся письма[556][557].
Полемика
В конце 1970 годов израильские литературные критики, иммигранты из СССР М. Каганская, Р. Нудельман и публицист М. Агурский обвинили Ефремова в интеллектуальном антисемитизме, ницшеанстве и протофашизме (протонацизме); позднее И. Гомель отметила «криптонацистские» элементы в творчестве писателя. Согласно критикам, антииудаизм, антихристианство и «манихейский расизм» Ефремова соответствовали «теософской гностике протонацизма», с которым его сближали культ молодости и сверхчеловека, евгенические идеалы. Критикам резко возразил Л. Геллер[558][559], отметив близость обвинительной риторики к советскому навешиванию ярлыков на инакомыслящих[428]. Позднее аналогичные критические оценки высказали историк Н. Митрохин и антрополог В. Шнирельман, с уточнением, что писатель не поддерживал идею национального превосходства[560]. Как полагал Сергеев, анализ произведений не позволяет говорить о расизме и протонацизме Ефремова[561], а возложение писателем на иудаизм ответственности за мизогинию, антиэротизм и стяжательство («Таис Афинская») уравновешивается положительными оценками еврейского народа[562]. В то же время, по всей вероятности, у Ефремова были ксенофобские стереотипы в отношении евреев («делец» и «проныра»), которые, возможно, восходили ко временам его юности и которые он старался не демонстрировать, хотя о них знали в литературных кругах[563].
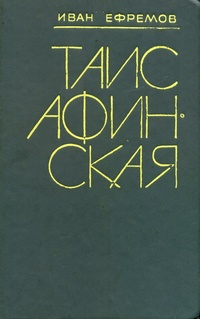
Критиковались и взгляды писателя на отношения полов, как с позиций антифеминизма (например, публицист А. Никонов), так и с обратной точки зрения. Комиссаров писал о редукционистских или даже сексистских установках, которые видны в известной дискуссии о красоте в «Лезвии бритвы»[564]. По мнению М. Галиной, писателю не удалось избежать утилитаризма и функционализма ― в его книгах «нет переходов, полутонов, нюансов», нет мужественных женщин и женственных мужчин[565][566]. Расходится с современным феминизмом и выбор гетеры в качестве главной героини («Таис Афинская») из-за её социальной роли. Комиссаров полагал, что, несмотря на большое внимание к гендерной проблематике («Час Быка»), Ефремов не вышел за рамки советского гендерного мифа, в котором эклектично смешивались декларации о равноправии и патриархальные стереотипы[567].
В начале XXI века в рунете велись жаркие споры о различных аспектах произведений Ефремова, фантасту посвящались тематические ресурсы[568]. Его творчество провоцировало полемику и получало полярные оценки[569] — от восхищения и похвалы до яростных нападок, что В. Ковалёв связывает скорее с идеологическими, а не эстетическими разногласиями. По его мнению, оценка Ефремова во многом зависит от личного отношения к возможности эгалитарного общества — утопической проблематике, которая, хотя и вытесняется на периферию жизни людей, никогда окончательно не исчезает[570]. О Ефремове высказывались, например, Д. Быков, Д. Володихин или О. Дивов[569]. Если Володихин отмечал тяжёлый и тягучий стиль писателя и считал его творчество «частью мемориала советской культуре»[571], то Быков называл Ефремова выдающимся стилистом[569][371]. Крайне резкую и неполиткорректную оценку «Туманности Андромеды» дал К. Крылов, чем вызвал бурную дискуссию в тематическом сегменте рунета[572]:
…это постъядерный мир, в котором выжили, судя по всему, китайцы. Которые создали нищебродскую и стагнирующую цивилизацию… Китайский стандарт чувствуется во всём… Детей держат в интернатах, без безотцовщины коммунизма не бывает. Есть специальный остров, где мамы имеют право воспитывать своих детей… Есть также остров Забвения, куда ссылают диссидентов… Ну и охраняет это всё «организация ПНОИ — психологического надзора». Кто бы сомневался! А ведь Ефремов не был злым или дурным человеком. Просто коммунизм не бывает хорошим. Это всегда мерзость, нищебродство и гниль, даже если его пытаются выставить с самой что ни на есть лучшей стороны…
Д. Быков, напротив, высоко оценивал творчество и идеи Ефремова. С его точки зрения, судить о предвидениях писателя можно будет в далёком будущем, в котором и происходит действие его главных произведений[569]. Быков отмечал оптимизм Ефремова по отношению к природе человека, его веру в перспективу антропологической революции, в беспредельность эволюционных возможностей человека; для Ефремова неприемлемы пессимизм, представления, согласно которым человек несовершенен и руководствуется низменными инстинктами ― при такой позиции любое общественное устройство, будь то капитализм или социализм, может стать невыносимым для жизни. Однако путь человека пролегает по лезвию бритвы, великое и прекрасное оказывается, по словам Быкова, на «тончайшей грани между диктатурой и анархией, богатством и нищетой, сентиментальностью и зверством». Быков связывал непопулярность Ефремова в постсоветской России с тем, что в условиях «дикого» капитализма возобладали установки, согласно которым животную сущность человека изменить невозможно, а капитализм является «концом истории»[229].
Б. Межуев резко противопоставлял взгляды Ефремова философии братьев Стругацких и, шире, иудео-христианской традиции: писатель, отвергая первородный грех и постулируя добрую природу человека, следует «языческо-гуманистической», руссоистской традиции, которая включает и марксизм. Так как зло порождается искажёнными социальными отношениями, Ефремов, согласно Межуеву, приходит к мысли о необходимости революционного обновления несовершенного общества, в том числе с помощью «сверхусилий сверхлюдей»[431].
Членство в организациях
- Всесоюзное палеонтологическое общество[159].
- Московское общество испытателей природы[159].
- Союз писателей СССР[159].
- Американское общество палеонтологии позвоночных[англ.][159].
- Национальное географическое общество[159].
- Лондонское Линнеевское общество, почётный член[159].
- Входил в редколлегии журналов «Природа»[159], «Вокруг света» (1946―1949 ― главный редактор)[573], альманаха «Искатель»[574].
Награды и премии
- 1945 — орден Трудового Красного Знамени — за заслуги в палеонтологии[155][575].
- 1945 — орден «Знак Почёта»[576][577].
- 1946 — премия им. А. А. Борисяка (совместно с А. П. Быстровым) ― за работу «Bentosuchus sushkini Efr. — лабиринтодонт из эотриаса р. Шарженги»[576].
- 1952 — Сталинская премия II степени — за книгу «Тафономия и геологическая летопись»[576].
- 1967[576] или 1968[578][575] — орден Трудового Красного Знамени — за заслуги в развитии советской литературы и активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся[576].
- Пять премий от Президиума Академии наук СССР ― за палеонтологические исследования в МНР[159].
- Ряд медалей[159].
Экранизации и документальные фильмы

- «Туманность Андромеды» (реж. Евгений Шерстобитов, киностудия им. Довженко), 1967. Полное название фильма: «Туманность Андромеды. Часть 1. Пленники Железной Звезды». Единственная полноценная попытка экранизации произведений Ефремова оказалась неудачной, продолжения не последовало. Критики отмечали слабое выражение оригинальных идей, чрезмерную торжественность, эклектичный дизайн костюмов и фанерные декорации. В 1980-е годы была выпущена переозвученная версия[579].
- «Тень минувшего» (реж. Тамара Павлюченко). Телеспектакль в шестом выпуске телеальманаха «Этот фантастический мир», 1981. Съёмки проходили в старом здании Палеонтологического музея и в песчаном карьере в Подмосковье. Отмечалась удачная игра исполнителя главной роли Ю. Богатырёва[580].
- «Откровение Ивана Ефремова» (режиссёр Неля Гульчук, киностудия «Центрнаучфильм»), 1990. Художественно-публицистический фильм включает инсценировки некоторых эпизодов главных произведений писателя[581].
- «Человек Эры Кольца. Иван Ефремов» (режиссёр Денис Чуваев), 2007. Документальный фильм.
Библиография
Научные и научно-популярные работы
- соавт. Быстров А. П. Bentosuchus sushkini Efr. – лабиринтодонт из эотриаса р. Шарженги. — М.: Изд-во АН СССР, 1940. — Т. 10. — 152 с. — (Тр. ПИН АН СССР, выпуск 1).
- Предварительное описание новых форм пермской и триасовой фауны наземных позвоночных СССР. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. — Т. 10. — 140 с. — (Тр. ПИН АН СССР, выпуск 2).
- Taphonomy: new branch of paleontology // Pan-American Geologist. — 1940. — № 2. — P. 81―93.
- соавт. Геккер Р. Ф., Громова В. И. и др. Развитие жизни на земле: альбом наглядных пособий. — М.: Госкультпросветиздат, 1947. — 47 с.
- Тафономия и геологическая летопись: Кн. 1. Захоронение наземных фаун в палеозое. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — Т. 24. — 178 с. — (Тр. ПИН АН СССР).
- Руководство для поисков остатков позвоночных в палеозойских континентальных толщах Сибири. — М.: Изд-во АН СССР, 1951. — 20 с.
- Что такое тафономия // Природа. — 1954. — № 3. — С. 48―54.
- Фауна наземных позвоночных в пермских медистых песчаниках Западного Приуралья. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. — Т. 54. — 416 с. — (Тр. ПИН АН СССР).
- соавт. Вьюшков Б. П. Каталог местонахождений пермских и триасовых наземных позвоночных на территории СССР. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. — Т. 46. — 185 с. — (Тр. ПИН АН СССР).
- На пути к роману «Туманность Андромеды» // Вопросы литературы. — 1961. — № 4. — С. 142―153.
- Наука и научная фантастика // Природа. — 1961. — № 12. — С. 41―47.
- Тайны прошлого в глубинах времён. — М.: Знание, 1968. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике. «Естествознание и религия»).
- Космос и палеонтология // Населённый космос. — Наука, 1972. — С. 91―102.
Художественные произведения
| Рассказы; сборник рассказов и писем Романы Повести Документальная повесть |
Комментарии
- Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 19. Оп. 127. Д. 2183. Л.177—178.
- В двух автобиографиях Ефремов называл годом окончания школы 1923-й, дата аттестата ― 1924-й[21]. В удостоверении об окончании школы указаны даты обучения ― с 1921 года по 1924 год. О. Ерёмина и Н. Смирнов пишут об окончании школы зимой 1923 года и указывают даты обучения: 1921―1923[22].
- «Изощрённые палачи умеют пытать страшно».
- Возможное объяснение ― переориентация советской внешней политики с Монголии на Китай.
- «Эллинский секрет» (идея наследственной памяти) не прошёл цензуру[208] и был издан только в 1966 году.
- Гетера Фрина была натурщицей Праксителя, её история увлекала Ефремова[377].
- Неизвестно, воспринял ли Ефремов идеи Фёдорова прямо или опосредованно ― через работы Вернадского или Циолковского; другие возможные источники — П. Флоренский и Е. Замятин. Схожие идеи высказывал Тейяр де Шарден, писавший о «ноосфере»[435]. И. Каспэ полагала влияние утопизма Фёдорова недоказанным, но возможным и релевантным[285].
- Аналогично ситуации В. Шаламова[465].
- По утверждению Галины Усовой, Т. Ефремова рассказывала, что ей удалось выполнить последнее желание Ефремова и развеять его прах над Индией, а на кладбище находится кенотаф[471].
Примечания
Литература
Ссылки
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads

