Лучшие вопросы
Таймлайн
Чат
Перспективы
Боярыня Морозова
картина Василия Ивановича Сурикова Из Википедии, свободной энциклопедии
Remove ads
«Боя́рыня Моро́зова» — крупноформатная картина русского художника Василия Сурикова (1848—1916), завершённая в 1887 году. Хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве (инв. 781). Размер полотна — 304 × 587,5 см[1][2]. Тема произведения связана с историческими событиями XVII века — расколом Русской православной церкви и его последствиями. На картине изображены события ноябрьского дня 1671 года, когда видную деятельницу старообрядчества — боярыню Феодосию Прокофьевну Морозову — везли по московским улицам после допроса в Чудовом монастыре[3][4]. Обращаясь к народу из саней, Морозова подняла закованную в цепь руку с раскольничьим двуперстным крестным знамением, призывая всех стоять за старую веру[5]. Вместе с двумя другими, более ранними полотнами 1880-х годов — «Утро стрелецкой казни» (1881) и «Меншиков в Берёзове» (1883) — картину «Боярыня Морозова» объединяют в историческую трилогию Сурикова, посвящённую драматическим событиям российской истории XVII—XVIII веков[6][7], причём последняя из этих картин считается вершиной трилогии[8].
Первоначальный эскиз картины «Боярыня Морозова» был написан в 1881 году, однако затем был перерыв, связанный с работой над «Меншиковым в Берёзове» (1881—1883) и заграничным путешествием (1883—1884). После возвращения в Москву в мае 1884 года Суриков продолжил работу над «Боярыней Морозовой»[9]. Большое полотно было готово в начале 1887 года. Оно было представлено на 15-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок («передвижников»)[10][11], открывшейся в феврале 1887 года в Санкт-Петербурге, а в апреле того же года переехавшей в Москву[12][13]. В том же году картина «Боярыня Морозова» была приобретена Павлом Третьяковым[1] за 15 тысяч рублей[14][15].
Художественный критик Владимир Стасов писал, что Суриков, представивший на 15-й передвижной выставке полотно «Боярыня Морозова», сделал «громадный шаг вперёд», создав картину, которая «есть первая из всех наших картин на сюжеты русской истории»[16]. По словам искусствоведа Дмитрия Сарабьянова, картина «Боярыня Морозова» — «центральное произведение творчества Сурикова, принесшее наибольшую славу художнику»[17] и явившееся «самым ярким, самым поэтическим выражением его исканий»[18]. Искусствовед Николай Машковцев писал, что в «Боярыне Морозовой» «живопись Сурикова достигает своей вершины»[19], и отмечал, что в этом полотне художнику удалось достичь «огромной силы выражения положительно во всех действующих лицах» — здесь нет «безликих статистов», каждый характер обладает высокой степенью законченности, занимает определённое ему место и несёт «окончательный внутренний смысл», при этом сохраняя свою индивидуальность и народные черты[20].
Remove ads
История
Суммиров вкратце
Перспектива
Предшествующие события
В 1869—1875 годах Василий Суриков учился в Академии художеств в классе исторической живописи, где его наставниками были Пётр Шамшин, Богдан Виллевальде, Фёдор Бруни, Фёдор Иордан, Карл Вениг, Тимофей Нефф и (с 1873 года) Павел Чистяков[21][22][9]. В 1874 году за картину «Милосердный самарянин» (ныне в КГХМ) Суриков был награждён малой золотой медалью Академии художеств, а в 1875 году за полотно «Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Береники и проконсула Феста» (ныне в ГТГ) он был удостоен звания классного художника 1-й степени, но без присуждения большой золотой медали[21]. По некоторым сведениям, это произошло из-за того, что в тот год у Академии не было средств для оплаты полагавшейся вместе с этой наградой пенсионерской поездки за границу[23].

В конце 1870-х годов Суриков начал работу над своим первым большим произведением на тему русской истории — картиной «Утро стрелецкой казни»[24]. Первые эскизы для будущего полотна были созданы в 1878 году, а вся работа над ним заняла около трёх лет. Картина была представлена на 9-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок («передвижников»), открывшейся в марте 1881 года в Санкт-Петербурге[25][26]. Перед самым началом выставки, 27 февраля 1881 года, за создание полотна «Утро стрелецкой казни» Суриков был избран членом Товарищества передвижных художественных выставок[27]. Прямо с выставки картина была приобретена Павлом Третьяковым[28].
В том же 1881 году, вскоре после окончания работы над «Утром стрелецкой казни», Суриков взялся за создание своего второго полотна, связанного с русской историей, — «Меншиков в Берёзове»[29], работа над которым продолжалась около двух лет[30]. Картина экспонировалась на 11-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок, открывшейся в марте 1883 года в Санкт-Петербурге[31]. Полотно также было приобретено Павлом Третьяковым[32].
Гонорар, полученный от Третьякова за «Меншикова в Берёзове», позволил Сурикову осуществить его первую заграничную поездку, в которую он отправился вместе с семьёй — женой Елизаветой Августовной и двумя дочерьми, Ольгой и Еленой. Во время путешествия, которое продолжалось с сентября 1883 года по май 1884 года, художник побывал в Германии, Франции, Италии и Австрии[33][34]. Посещая всемирно известные художественные музеи, Суриков внимательно изучал произведения живописцев различных стран, школ и эпох, анализируя их достоинства и недостатки и находя причины, «почему одно волнует и радует, а другое оставляет равнодушным»[35]. В письме к своему учителю Павлу Чистякову, написанном в конце декабря 1883 года, Суриков писал: «Да, колорит — великое дело! Видевши теперь массу картин, я пришёл к тому заключению, что только колорит вечное, неизменяемое наслаждение может доставлять, если он непосредственно, горячо передан с природы. В этой тайне меня особенно убеждают старые итальянские и испанские мастера»[36][37].
Работа над картиной


Рассказывая историю создания своих картин поэту Максимилиану Волошину, Суриков говорил: «„Боярыню Морозову“ я задумал ещё раньше „Меншикова“ — сейчас после „Стрельцов“. Но потом, чтобы отдохнуть, „Меншикова“ начал. Но первый эскиз „Морозовой“ ещё в 1881 году сделал, а писать начал в восемьдесят седьмом»[38]. Искусствовед Николай Машковцев отмечал близкую аналогию этой ситуации с работой Александра Ива́нова над «Явлением Христа народу», который перед написанием большого полотна решил сначала «поупражнять свои силы» в гораздо меньшей картине — «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения»[39]. До отъезда в заграничное путешествие, помимо первоначального эскиза «Боярыни Морозовой» 1881 года, Суриковым был также написан этюд «Сидящий нищий» (1883, ныне в Национальной галерее в Праге), для которого ему позировал Архип Цветков[40]. Во время зарубежной поездки художник продолжал обдумывать композицию будущей картины, о чём свидетельствуют его записи в дорожном альбоме, в которых упоминаются связанные с боярыней Морозовой и её временем материалы — книга Ивана Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях», роман Даниила Мордовцева «Великий раскол» и статья Николая Тихонравова «Боярыня Морозова (Эпизод из истории русского раскола)», опубликованная в «Русском вестнике» в 1865 году[41][42].
По всей видимости, Суриков был также знаком со старообрядческой «Повестью о боярыне Морозовой», которая упоминалась в трудах Забелина и Тихонравова[43]. Кроме того, есть предположения, что в процессе работы над картиной Суриков мог познакомиться со старообрядческой акварельной картинкой «Житие лицевое великия ревнительницы древляго благочестия ближния боярыни царской Феодосии Прокопьевны Морозовой», которая входила в число настенных рисунков, получивших широкое распространение во второй половине XVIII века и начале XIX века[44]. На этой картинке изображено несколько сюжетов, связанных с жизнью боярыни Морозовой. В частности, правое верхнее изображение на листе показывает сидящую в санях Морозову, сопровождаемую стрельцами. Поза боярыни на рисунке довольна близка к той, в которой она изображена на окончательной версии полотна Сурикова. Впоследствии эта картинка находилась в коллекции петербургского купца и библиофила Александра Бурцева (1863—1938). Её нынешнее местонахождение неизвестно[45]. В первой четверти XIX века рисунок «Боярыню Морозову везут в заключение», соответствующий правому верхнему изображению старообрядческой картинки, воспроизводился отдельно в виде рисованного лубка[46].
В мае 1884 года Суриков вместе с семьёй вернулся в Москву[33], где снял квартиру на Долгоруковской улице, в доме купца Ксенофонта Абрамовича Збука, владельца фабрики металлических изделий[47]. В письме к своей матери Прасковье Фёдоровне и брату Александру, отправленном летом 1884 года, художник сообщал: «Я и жена и дети, слава богу, здоровы. Уже как будет два или три месяца мы устроились на новой квартире. Теперь я пишу новую картину, тоже большую»[36].
Весной и летом 1885 года Суриков жил в подмосковных Мытищах. Там он продолжал работу над этюдами для «Боярыни Морозовой»[48]. Летом 1885 года он оттуда писал своим родным: «Мы теперь живём в деревне на даче под Москвой. Я там работаю этюды для моей картины»[49]. В Мытищах Суриков жил в «последней избушке с краю», у дороги, по которой ходили богомольцы к Хотьковскому монастырю и Троице-Сергиевой лавре. Среди них он искал натурщиков для своей будущей картины[50][51][52]. Впоследствии художник вспоминал: «И тут я ещё штрихи ловил. Помните посох-то у странника в руках? Это богомолка одна проходила мимо с этим посохом. Я схватил акварель, да за ней. А она уже отошла. Кричу ей: „Бабушка бабушка! Дай посох…“ А она и посох-то бросила — думала, разбойник я»[53].
В письме от 3 апреля 1886 года, извиняясь перед матерью и братом за то, что он долго им не писал, Суриков сообщал: «Я пишу большую картину теперь, „Боярыню Морозову“, и будет только к будущему январю готова она. Только к будущему году освобожусь совсем. А это лето всё надо писать этюды к этой картине»[54].
15-я передвижная выставка
«Боярыня Морозова» была представлена на 15-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок[10][11], открывшейся в Санкт-Петербурге 25 февраля 1887 года[K 1], а в апреле того же года переехавшей в Москву[12][13]. Петербургская часть выставки проходила в доме Боткиной (Сергиевская улица, дом 7), а московская — в помещении Московского училища живописи, ваяния и зодчества[13]. «Боярыня Морозова» была единственным произведением Сурикова, представленным на выставке. Там же экспонировались такие известные в будущем крупноформатные полотна, как «Христос и грешница» Василия Поленова и «Страдная пора. Косцы» Григория Мясоедова[55].
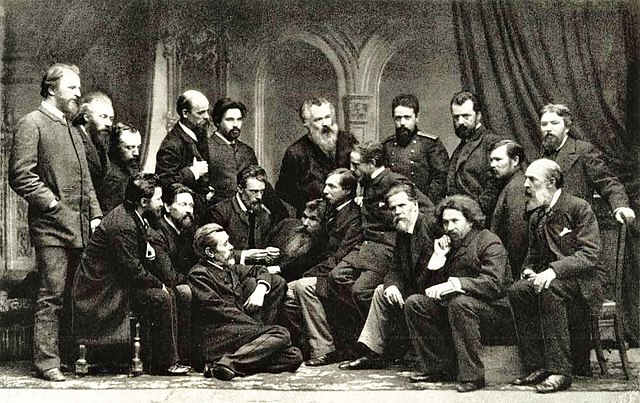
В периодической печати появилось большое количество публикаций, посвящённых разбору представленных произведений[56][57], причём частота появлявшихся статей имела два ярко выраженных «всплеска», связанных с открытием передвижной выставки сначала в Санкт-Петербурге, а потом в Москве[58]. Наибольшее внимание, как у зрителей, так и у рецензентов, привлекли «Христос и грешница» Поленова и «Боярыня Морозова» Сурикова[59], причём поначалу вторая картина была в тени первой. Например, обозреватель издания «Новости и биржевая газета» (номер от 26 февраля 1877 года), восхваляя «Христа и грешницу», далее писал: «Другая, тоже большая историческая картина Сурикова „Боярыня Морозова“, хотя и собирает перед собой немало публики, но вызывает весьма разнообразные суждения, до небес превозносимая одними и сильно критикуемая другими»[58][60]. Те, кому больше нравилось произведение Поленова, утверждали, что «Поленов — это гармония», а Суриков — «серое небо, бедные краски, бедный рисунок, отсутствие гармонии». Сторонники Сурикова говорили, что у Поленова — «лиловые тени» и «смягчённый свет», в то время как реальная действительность — «в суровой кисти Сурикова». Некоторые авторы, придерживавшиеся старых традиций парадной исторической живописи, ругали и Поленова, и Сурикова. С высокой оценкой творчества Сурикова выступил художественный критик Владимир Стасов, посвятивший «Боярыне Морозовой» почти половину своей обзорной статьи и назвавший её лучшей исторической картиной русской школы. Положительную оценку как «Боярыне Морозовой», так и «Христу и грешнице» дали в своих статьях писатели и критики Всеволод Гаршин и Владимир Короленко[59].
В том же 1887 году картина «Боярыня Морозова» была приобретена Павлом Третьяковым[1] за 15 тысяч рублей[14]. В письме к Третьякову, датированном 21 мая 1887 года, Суриков подтверждал: «В уплату из пятнадцати тысяч рублей за „Боярыню Морозову“ пять тысяч рублей получил», после чего следовала приписка: «Десять тысяч рублей получил»[15]. Покупка картины для Третьяковской галереи, о которой стало известно во время передвижной выставки, вызвала живой отклик в художественной среде. В письме от 26 февраля 1887 года Владимир Стасов сообщал Третьякову: «Я вчера и сегодня точно как рехнувшийся от картины Сурикова! Только о том глубоко скорбел, что она к Вам не попадёт — думал, что она дорога́, при Ваших огромных тратах. И ещё как тосковал!!! Прихожу сегодня на выставку, и вдруг — „приобретена П. М. Третьяковым“. Как я аплодировал Вам издали, как горячо хотел бы Вас обнять!»[61][62]. Скульптор Марк Антокольский писал Третьякову: «Я очень рад, что вы приобрели картину Сурикова, я равнодушно не могу говорить ни про картину Сурикова и ни про него самого. Эта картина — чудное создание; правда, в ней есть некоторые недостатки, но зато она до того искренна, своеобразна и сильна, что она захватывает»[63].
Последующие события


После того как в 1887 году Павел Третьяков приобрёл «Боярыню Морозову», он решил сделать отдельный суриковский зал, где также были собраны остальные произведения художника — «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Берёзове», а также академические этюды. По воспоминаниям хранителя галереи Николая Мудрогеля, «с того времени у нас образовался суриковский зал — любимый зал наших посетителей»[64]. Согласно опубликованной в 1896 году «Описи художественных произведений городской галереи Павла и Сергея Третьяковых», все эти произведения Сурикова находились в 7-й комнате (вверху)[65]. В настоящее время картина «Боярыня Морозова» вместе с другими работами художника выставляется в «Суриковском зале» (зал № 28) основного здания Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке[66].
Летом 1941 года, после начала Великой Отечественной войны, многие экспонаты из собрания Государственной Третьяковской галереи были эвакуированы в Новосибирск, где они хранились в недостроенном здании Новосибирского театра оперы и балета[67]. При перевозке такие крупные полотна, как «Утро стрелецкой казни» и «Боярыня Морозова», накатывали на специально изготовленные для этой цели валы, защищая красочный слой папиросной бумагой и мягкой фланелевой тканью[68]. Картины были возвращены в Третьяковскую галерею в ноябре 1944 года[69].
Картина «Боярыня Морозова» экспонировалась на ряде выставок в СССР и России, в том числе на персональных выставках Сурикова, состоявшихся в 1927 и 1937 годах в Государственной Третьяковской галерее в Москве, в 1937 году в Государственном Русском музее в Ленинграде и в 1938 году в Киеве[1][70], а также на выставке «Русская историческая живопись» (Москва, 1939, ГТГ)[1][71]. В 1966 году полотно было главным экспонатом выставки «В. И. Суриков. „Боярыня Морозова“. История создания», организованной в Москве[1][70]. В 1971—1972 годах картина принимала участие в приуроченной к столетию ТПХВ выставке «Передвижники в Государственной Третьяковской галерее», проходившей в Москве, а в 1983—1984 годах — в московской ретроспективной выставке «225 лет Академии художеств СССР»[1][72]. Картина «Боярыня Морозова» также была одним из экспонатов юбилейной выставки к 175-летию со дня рождения Сурикова, проходившей с декабря 2023 года по май 2024 года в корпусе Бенуа Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге[73].
Полотно «Боярыня Морозова» неоднократно реставрировалось. Среди реставраторов, в разное время работавших над картиной, упоминаются имена Алексея Рыбникова[74], Дмитрия Богословского[75] и Михаила Иванова-Чуронова[76]. В частности, перед открытием персональной выставки Сурикова 1927 года была проведена реставрационная промывка полотен «Боярыня Морозова» и «Утро стрелецкой казни», которая проходила с участием реставраторов Алексея Рыбникова[77] и Дмитрия Богословского[78]. В результате этой промывки с картин был удалён скрывавший живопись плотный слой грязи и пыли, после чего, по словам Петра Нерадовского, картины можно было увидеть «в настоящем их виде». Хорошей иллюстрацией этого были копии фрагмента центральной нижней части «Боярыни Морозовой» с изображением снега, сделанные художником Петром Кончаловским до и после промывки — с картины словно была «снята пелена» и она предстала «во всём своём живописном богатстве»[77].
В конце XX века в Третьяковской галерее был проведён ряд технологических исследований картины «Боярыня Морозова» и подготовительных работ к ней. Эти исследования включали в себя анализ через бинокулярный микроскоп и в ультрафиолетовых лучах, рентгенографирование, а также изучение холстов, грунтов и пигментного состава красочного слоя[79]. В частности, для картины «Боярыня Морозова» было сделано около шестидесяти рентгенограмм, включающих основные действующие лица и элементы пейзажа[80]. По словам искусствоведа Лидии Гладковой, «на огромном холсте шли постоянные поиски: счищались одни фигуры, возникали другие». Судя по всему, до последнего момента Суриков вносил многочисленные уточнения, как частного характера, так и более серьёзные, уточняющие расположение фигур и усиливающие выражения лиц[81].
Remove ads
Описание
Суммиров вкратце
Перспектива
Историческое введение

Боярыня Феодосия Прокофьевна Морозова (урождённая Соковнина), изображённая на полотне, была видной деятельницей раннего русского старообрядчества. Она родилась в 1632 году в семье окольничего Прокофия Фёдоровича Соковнина, который приходился родственником царице Марии Ильиничне Милославской, первой жене царя Алексея Михайловича. В 1649 году, в возрасте семнадцати лет, Феодосия Прокофьевна была выдана замуж за боярина Глеба Ивановича Морозова, который был намного старше её (для него это был уже второй брак)[82][83]. Старший брат Глеба Ивановича — Борис Иванович Морозов — был воспитателем («дядькой») Алексея Михайловича, а с 1645 года, когда тот стал царём, — его фаворитом[84][85], «всесильным временщиком», имеющим большое влияние при дворе[86]. Кроме того, будучи женат на Анне Ильиничне Милославской — сестре царицы Марии Ильиничны, — Борис Иванович был свояком Алексея Михайловича[85]. В конце 1661 года Борис Иванович Морозов скончался[84], не оставив наследников. Всё его богатство унаследовал младший брат Глеб Иванович, который и сам был весьма состоятельным человеком, однако вскоре, не позднее 1662 года, умер и он. В результате обладателем громадного состояния стал его сын — отрок Иван Глебович, а фактически — вдова Глеба Ивановича и мать Ивана, Феодосия Прокофьевна Морозова[87].
В 1664 году в доме Морозовой некоторое время жил протопоп Аввакум, который стал духовником Феодосии Прокофьевны. Он был одним из идеологов старообрядчества, проводя открытую борьбу против начатых в 1650-х годах реформ патриарха Никона, приведших к расколу Русской церкви. После того, как Аввакум был отправлен в ссылку, Морозова продолжила его дело, активно выступая против никонианских реформ[82][88]. В её доме находили себе приют сторонники старообрядчества, в том числе странники, юродивые и нищие[89]. В конце 1670 года боярыня Морозова приняла тайное пострижение, которое совершил игумен Досифей, и стала инокиней Феодорой. После этого она окончательно отдалилась от светских церемоний и, в частности, сославшись на болезнь («Ноги ми зело прискорбны, и не могу ни ходити, ни стояти»), не присутствовала на бракосочетании царя Алексея Михайловича с Наталией Кирилловной Нарышкиной, состоявшемся 22 января (1 февраля) 1671 года, где ей полагалось «в свадебном чину стоять во главе других боярынь и титлу царскую говорить»[3][82][90].
Алексей Михайлович отговорке Морозовой не поверил и воспринял её отказ прийти на свадьбу как тяжкое личное оскорбление. Неоднократные попытки «вразумить» боярыню Морозову, предпринимаемые царём и его посланниками, успехом не увенчались. 16 (26) ноября 1671 года Феодосию Прокофьевну и её сестру — княгиню Евдокию Прокофьевну Урусову, сподвижницу Морозовой и активную приверженницу старой веры, — заключили под стражу и отправили в Чудов монастырь, находившийся в Московском Кремле. Женщин жестоко пытали, поднимали на дыбу, бросали полуголыми на снег. Но и на дыбе Морозова сохраняла силу духа и продолжала обличать вероотступников. В конце концов по приказу Алексея Михайловича Морозова и Урусова были отправлены в заточение в Боровский острог. В июне 1675 года их перевели в глубокую земляную тюрьму, где они вскоре умерли от голода и истощения[82][91].
Сюжет и композиция

На картине изображены события одного из ноябрьских дней (по разным данным, 17, 18[3] или 19 ноября[4]) 1671 года, когда боярыню Морозову (монашеское имя — Феодора) после допроса в Чудовом монастыре везли в санях мимо царских палат. Этот эпизод был следующим образом описан в старообрядческой «Повести о боярыне Морозовой»: «И везена бысть мимо Чюдова под царские переходы. Руку же простерши десную свою великая Феодора и ясно изобразивши сложение перст, высоце вознося, крестом ся часто ограждаше, чепию такожде часто звяцаше. Мняше бо святая, яко на переходех царь смотряет победы ея»[4]. Обращаясь к народу, Морозова подняла закованную в цепь руку с раскольничьим двуперстным крестным знамением, призывая всех стоять за старую веру. Боярыня является главным персонажем картины не только по сюжету, но и композиционно, поскольку её фигура находится практически в самом центре полотна[5]. Сани, на которых везут Морозову, в источниках также называют дровнями[92] или розвальнями[93][94]. Согласно энциклопедическому словарю «Русский традиционный быт», дровни — это «грузовые сани, использовавшиеся для перевозки брёвен» и других громоздких грузов[95], а розвальни — это дровни «с установленным на них открытым кузовом, плетённым из тонких длинных прутьев, сшитым из луба или решётчатым» (иллюстрация, приведённая в словаре, показывает, что на картине Сурикова изображены именно розвальни, являющиеся частным случаем дровен)[96].
Сани, на которых везут Морозову, движутся справа налево, по улице, забитой народом. Композиция картины построена так, что движение саней как будто разрезает толпу на две неравные части. Бо́льшая из этих частей — правая, в которой преобладают люди, сочувствующие боярыне: юродивый, нищенка, странник, монашенки, боярышни, старуха в узорном платке и другие[5][97]. Справа от Морозовой, в непосредственной близости к саням, идёт её сестра и сподвижница княгиня Урусова, рядом с которой находится конвоирующий её стрелец с бердышом[98]. В центре полотна и в левой части толпы находятся те, к которым Морозова обращена спиной и которые ещё не успели увидеть её лицо. Здесь преобладает «праздное любопытство, зубоскальство и открытое издевательство»[99]. Наиболее яркими противниками Морозовой являются смеющиеся священник и купец[100]. Соответствующим образом выбран и архитектурный фон: справа — стена церкви, а слева — различные здания гражданского назначения[97].
Пейзаж в картине имеет собирательный характер, хотя его отдельные детали соответствуют определённым улицам. Суриков описывал это так: «Всё с натуры писал. И сани, и дровни. Мы на Долгоруковской жили. (Тогда её ещё Новой Слободой звали.) Там в переулке всегда были глубокие сугробы, и ухабы, и розвальней много. Я всё за розвальнями ходил, смотрел, как они след оставляют, на раскатах особенно. <…> И переулки всё искал, смотрел; и крыши где высокие»[101]. По словам художника, «а церковь-то в глубине картины — это Николы, что на Долгоруковской», а ближе к левому краю полотна — посадские дома[102]. Под «церковью Николы» имелась в виду церковь Николая Чудотворца в Новой Слободе (также известная как храм Святителя Николая Мирликийского в Новой Слободе), которая с тех пор была значительно перестроена[103]. В то же время встречаются утверждения, что при написании пейзажа художник также использовал воспоминания об улицах своего родного города Красноярска[101][92].
Действующие лица
Странник

Стоящий странник с посохом, изображённый у правого края полотна, находится в трёхчетвертном повороте к зрителю[51]. Цвет его одежды — рыжевато-оливковый, соответствующий когда-то тёмной ткани, выгоревшей и вылинявшей во время долгих странствий[104]. По-видимому, странник пришёл в Москву откуда-то издалека. Его коренастая фигура перепоясана ремнём и стянута верёвками, поддерживающими котомку, находящуюся у него за спиной[104]. Странник «снял шапку в знак преклонения перед Морозовой, прощаясь с ней». По словам Владимира Кеменова, то, что он опирается не на простую палку, а на старинный посох с фигурной рукоятью, «ещё более отдаляет образ странника от простого нищего и придаёт ему вид народного мудреца, странствующего проповедника Древней Руси»[105]. Писатель Владимир Короленко так описывал этого персонажа: «Какой-то странник, с котомкой и посохом, смотрит вослед боярыне задумчивым и немного мечтательным взглядом. Он уйдёт из Москвы в архангельские скиты, на Иргиз, на Дон, и всюду разнесёт весть о том, что Господь сподобил его видеть смертный подвиг святой боярыни»[106].
Фигура странника появляется в композиционных эскизах начиная с 1883 года[51]. Основные этюды, созданные Суриковым при работе над его образом, датированы 1885—1886 годами[107]. В частности, 1885 годом датированы этюды из собрания Третьяковской галереи — погрудный этюд маслом (инв. 6084)[51], а также этюды для посоха (инв. Ж-554) и руки с посохом (инв. 25580)[108]. В 1886 году были созданы два этюда для странника в полный рост, также хранящиеся в Третьяковской галерее, один из которых был написан маслом (инв. 25530), а другой — акварелью (инв. 15793)[109][110]. Кроме того, работая над этим образом, Суриков использовал автопортретные зарисовки[111]. Искусствовед Нонна Яковлева отмечала аналогию между этим персонажем и сидящим странником с посохом на картине «Явление Христа народу», которому Александр Ива́нов тоже придал автопортретные черты[112].
Юродивый и нищенка

Фигура сидящего на земле юродивого расположена на переднем плане, в правом нижнем углу полотна[5][105]. Поскольку он находится ближе всего к зрителю, он изображён более крупным планом, чем все остальные персонажи. Именно от юродивого начинается развитие сюжетной линии, идущей через всю картину справа налево, в сторону боярыни Морозовой[5]. По словам Владимира Кеменова, юродивый «служит отправной точкой, от которой идёт движение саней и развёртывается по диагонали композиция всей картины»[105]. Его образ играет значительную роль в раскрытии содержания полотна[5].
Искусствовед Алла Верещагина, описывая юродивого, отмечала, что «это самый смелый, самый преданный, но и самый жалкий из последователей Морозовой» — «искренний, с детски доверчивым лицом, он вместе с тем недалёк, туповат»[5]. Не обращая внимания на холод, юродивый сидит прямо на снегу, и только судорожно сжатые пальцы босых ног свидетельствуют о реакции его тела. Верещагина писала: «Преодолевая страдания, презирая мороз, голод, всё земное, этот человек совершает свой подвиг. Последний из последних бедняков, он, оказывается, обладает огромным кладом, невиданной силой духа, несгибаемой волей»[113].
Суриков долго искал натурщика, соответствующего образу задуманного им героя[113]. Поэт Максимилиан Волошин так передавал рассказ художника: «…А юродивого я на толкучке нашёл — огурцами он там торговал. Вижу — он. Такой череп у этих людей бывает. Я говорю: идём. Еле уговорил его. <…> В начале зимы было. Снег талый. Я его на снегу так и писал. Водки ему дал и водкой его ноги натёр. Алкоголики ведь они все. Он в одной холщовой рубахе босиком у меня на снегу сидел. Ноги у него даже посинели. Я ему три рубля дал. Это для него большие деньги были»[114][113].
При работе над образом юродивого Суриков создал ряд этюдов и набросков, в том числе «Голова юродивого» (1885, ГТГ, инв. 779), «Голова юродивого» (1885, ГТГ, инв. Ж-381), «Юродивый» (1885, ВХМ, инв. Ж-326), рисунок «Юродивый» (1886, ТОКГ, инв. Г-597) и другие[115].
Слева от юродивого, между ним и санями, опираясь на палку, стоит на коленях нищенка. В отличие от не обращающего внимания на холод юродивого, она одета хоть и в прохудившуюся, но старательно залатанную шубу, а её голова повязана двумя платками. Её правая рука, протянутая в сторону Морозовой, почти касается края саней, а жалостно сморщенное лицо полно искреннего сострадания[116]. Искусствоведы полагают, что этюд «Нищий, стоящий на коленях» (между 1884 и 1886, ГРМ, инв. Ж-4246) был создан Суриковым именно для образа нищенки, а не юродивого, как предполагалось ранее[117].
Слепой нищий и старик, снимающий шапку
Слева от странника, в значительной мере загороженные толпой, находятся слепой нищий и старик, снимающий шапку[118]. У нищего (Владимир Кеменов называет его «полумонах-полунищий») бледное лицо с воспалёнными веками, прикрывающими глаза. На его голове то ли шапка, то ли скуфья, надвинутая на лоб. Видно только его беспомощное лицо с приоткрытым ртом, свалявшейся бородкой и невидящими глазами. Тем не менее, по словам Кеменова, «даже этот убогий человек, в котором еле теплится остаток жизненных сил, толкается среди толпы, волнуется вместе с ней, „сострадает“ боярыне Морозовой»[119]. У старика, снимающего шапку, правильные черты лица, длинные волосы, борода и седеющие усы. Его голова приподнята вверх, поскольку он пытается разглядеть боярыню Морозову через загораживающую её толпу. По-видимимому, ему удаётся увидеть лишь её поднятую руку с раскольническим двуперстием, но и это побуждает его в знак уважения снять свою шапку. По мнению Кеменова, «это образ сильного, упорного в своей вере человека, готового на решительную борьбу во имя старой веры»[119].
Исследователи творчества Сурикова полагают, что основой для обоих образов послужил рисунок «Голова мужчины в скуфье», также известный под названием «Голова странника» (около 1884, ГРМ, инв. Р-13383)[120][121]. Отмечая, что в этом графическом этюде присутствует «странное сочетание решительных черт лица (в особенности резко очерченный нос и складка между бровями) с выражением чего-то жалкого и тщедушного во всём облике (втянутая в плечи голова, растерянный взгляд)», Владимир Кеменов писал, что в процессе работы над картиной Суриков «расчленил эту двойственность на составляющие части», создав два самостоятельных образа, в каждом из которых усилены и развиты черты, присущие соответствующему персонажу[118].
В процессе работы над этими образами художник также создал этюды «Слепой» (1884, ГТГ, инв. Ж-957), включающий в себя два изображения головы слепого нищего в различных ракурсах, и «Голова старика, стоящего в толпе справа» (1884, ГТГ, инв. 25456)[122].
Боярышня в синей шубке

В толпе справа привлекает внимание фигура боярышни в синей[113] (в некоторых источниках — в голубой[123]) шубке, стоящей за спиной у нищенки. Низко поклонившись боярыне Морозовой, она так и осталась стоять, опустив голову. Её склонённая поза акцентируется такой деталью, как загнутый с задней стороны уголок её жёлтого платка[124]. Вдоль застёжки шубка боярышни обшита прямоугольными кусочками собольего меха и украшена серебряным шнуром с кистями, а под шубкой виден цветной сарафан. Описывая живописное богатство этого образа, Владимир Кеменов писал, что на его примере видно, «как глубоко понял и развил Суриков заветы венецианских колористов»[125].
По словам Аллы Верещагиной, «боярышня красива особой вдохновенной красотой». Она выделяется в толпе не только своей красотой и позой-полупоклоном, но и «удивительной насыщенностью цвета, присущей её наряду» — шубке, в которой сосредоточено самое активное звучание сине-голубых тонов, и её платку, представляющему собой «самое яркое золотисто-жёлтое пятно в картине»[113]. Описывая боярышню в синей шубке, Галина Васильева-Шляпина отмечала, что её «одухотворённое лицо со скорбно поникшим ртом, трепетные тени от густых, пушистых ресниц, плавные дуги бровей создают светлый образ „Музы русской печали“»[124]. Сине-голубые и жёлтые цвета, присутствующие в одежде боярышни, находят отклики и в других местах картины — в частности, в чередовании золотистых и голубоватых главок церквей, расположенных на заднем плане. Кроме того, жёлтый цвет появляется в золотом фоне иконы, находящейся за спиной у боярышни в синей шубке, и в оплечье молодой женщины, изображённой в центральной части полотна[126].
В процессе работы над этим образом Суриков создал этюды «Голова кланяющейся боярышни» (1885, собрание семьи художника) и «Боярышня в синей шубке» (1887, ГТГ, инв. 5832)[127].
Боярышня со скрещёнными руками
Левее боярышни в синей шубке стоит «совсем ещё юная, по-детски непосредственная и эмоциональная» боярышня с руками, скрещёнными на груди. Увидев, как мимо неё везут закованную в цепи боярыню Морозову, она настолько потрясена зрелищем, что не замечает других людей, находящихся вокруг неё. Душа боярышни полна искреннего и глубокого сочувствия, «из полуоткрытого рта словно вырываются жалостливые восклицания, её тонкие брови страдальчески подняты, широко открытые глаза наполняются слезами». По всей видимости, она впервые столкнулась со столь грубыми и неприглядными проявлениями суровости жизни, что поразило её до глубины души и вызвало чувства жалости и сострадания[128].
При работе над этим образом Суриков написал этюды «Голова девушки в платке» (1885, собрание семьи художника) и «Боярышня со скрещёнными на груди руками» (1885—1886, ГТГ, инв. 11181)[129].
Старуха в узорном платке
Левее боярышни со скрещёнными руками находится старуха в узорном платке. Она одета в нарядную одежду из жёсткой парчовой ткани. По всей видимости, это «мамка», присматривающая за молодыми боярышнями, когда они выходят из домашнего терема. На лице старухи, изборождённом резкими морщинами, «застыло выражение глубокой скорби и сострадания». По словам Галины Васильевой-Шляпиной, «в её взгляде, в том, как она, задумавшись, поднесла руки к подбородку — „пригорюнилась“, — чутко схвачена народная основа русского женского характера»[130]. Владимир Кеменов писал, что в выразительном лице старухи-мамки и её умных и печальных глазах «есть что-то роднящее её с образами рембрандтовских старух»[98].
При работе над образом старухи-мамки Суриков создал погрудный этюд «Старуха в узорном платке» (1886, ГТГ, инв. 10320), а также одноимённый этюд, изображающий стоя́щую старуху во весь рост (1885, НХМРБ, инв. РЖ-149)[131].
Молодая женщина в золотном оплечье
В центральной части полотна в глубине толпы изображена молодая женщина в золотном оплечье. Она одета в узорную шубку и шапку, её голова окутана тёплым белым платком, закинутым на спину. Её золотное оплечье напоминает стёганую парчовую пелерину. В некоторых источниках её называют боярышней, однако, по мнению Владимира Кеменова, некоторый разнобой в её одежде, а также то, что она одна, без сопровождающих, находится в гуще толпы, свидетельствуют о том, что, «скорее, она может быть дочерью купца либо поповной или принадлежать к зажиточным слоям посада»[132]. Эта женщина выглядит менее взволнованной, чем другие действующие лица в правой части толпы. По словам Кеменова, во введении этого персонажа «сказалась мудрость художника как в понимании многообразия психологии уличной толпы, так и в умении строить картину, усиливая контрастом типов и состояний образов, окружающих Морозову, страстный пафос знаменитой раскольницы»[133].
В процессе работы над образом женщины в золотном оплечье Суриковым был написан этюд «Боярышня» (1886, РГХМ, инв. Ж-592)[133].
Беглая послушница и монашенка с чётками
Из-за спины боярышни в синей шубке[134], изображённой в правой части полотна, осторожно выглядывает молодая монашенка — по-видимому, беглая послушница. Её напряжённый взгляд показывает, что она хорошо понимает суть происходящего события, которое для неё «вовсе не явилось чем-то внезапным и не вызвало в душе никакого смятения»[135]. Вероятно, монашенка заранее знала и об аресте Морозовой, и о том, что её собираются перевозить из одного места в другое, и она наблюдает из толпы «не как противница, а как единомышленница знаменитой раскольницы, как лицо, причастное к узкой группе её домашнего окружения»[136]. Схожей трактовки придерживался и писатель Всеволод Гаршин, отмечавший, что из толпы «испуганно выглядывают монахини, быть может, те изгнанные инокини, которых приютила в дому своём мученица»[137][138]. В процессе работы над этим образом Суриковым были созданы этюды «Монашенка» (1884, ГТГ, инв. Ж-1208), «Голова монашенки» (ПГХГ, инв. Ж-304) и «Голова монашенки» (1884, местонахождение неизвестно)[139].
Ближе к центру полотна, правее женщины в золотном оплечье, изображена монашенка с чётками, касающаяся своей щеки пальцами левой руки[140]. При работе над её образом художник написал этюды «Монашенка» (1884, ГТГ, инв. 10454), «Монашенка с поднятыми к лицу руками» (1884—1885, ГТГ, инв. 11180) и «Голова монахини» (1884, КМИИ, инв. Ж-102)[141].
Смеющиеся священник и купец

Смеющийся священник-никонианец и хохочущий купец, изображённые в левой части полотна, относятся к образам, враждебным боярыне Морозовой. Купец с румяным лицом и окладистой бородой одет в шёлковый кафтан, у него на голове — высокая пышная шапка[142]. Он ненадолго отвернулся от саней, переговариваясь с мужчиной, стоящим позади священника. При этом купец вытянул вперёд левую руку, почти касаясь ей оглоблей[143]. По словам Галины Васильевой-Шляпиной, в его образе «олицетворён пошлый хихикающий обыватель, которому недоступно понимание трагической ситуации и героических черт человеческого характера»[142]. Священник — пожилой, хилый и тщедушный, с отталкивающей внешностью. У него жидкая бородёнка, большой нос и приоткрытый рот с редкими зубами[144]. Он одет в крытую бархатом меховую шубу с большим лисьим воротником. Это напоминает о словах из послания протопопа Аввакума, который писал, что Морозова, обличая никонианцев, является им «аки лев лисицам». По мнению Владимира Кеменова, «лисий мех у злорадно смеющегося попа-никонианца порождает у зрителей соответствующие ассоциации, намекая на его хитрость и неискренность»[145].
В процессе работы над образом священника художник создал этюды «Смеющийся священник» (между 1881 и 1886, НХМРБ, инв. РЖ-148), «Голова смеющегося старика» (1885—1886, частное собрание) и «Голова смеющегося священника» (1886, ГТГ, инв. 780), а для купца известен этюд «Смеющийся купец» (1886, ГТГ, инв. Ж-677)[146]. Прототипом смеющегося священника стал дьячок сухобузимской Троицкой церкви Варсонофий Семёнович Закоурцев, черты которого Суриков запечалел в одном из этюдов[147]. Художник рассказывал историю из своей юности, когда он ехал на повозке с Закоурцевым в Красноярск, но по дороге дьячок «купил себе зелёный штоф» и напился, так что весь остаток пути управлять лошадью пришлось Сурикову[148].
Боярышня в фиолетовой душегрее

Боярышня в фиолетовой душегрее изображена у левого края полотна и является одним из всего двух женских образов, присутствующих в левой части толпы (второй образ — находящаяся ещё левее женщина в тёмном шёлковом платке, бо́льшая часть фигуры которой обрезана краем холста)[149][130]. На голове у боярышни — русский национальный головной убор с орнаментальными узорами, вышитыми серебряными нитями по красной основе, а также с поднизью из лёгкого парчового кружева. Она одета в нарядное платье, расшитое изогнутыми стеблями и крупными цветами. Короткая душегрея из фиолетового бархата, отороченного мехом, накинута на голову боярышни и скрывает её руки[130]. Её образ демонстрирует, что не только в правой, но и в левой части толпы есть те, кто сочувствует трагической судьбе боярыни Морозовой[142].
При работе над этим образом Суриковым были созданы этюды «Голова боярышни в фиолетовой душегрее» (1885, собрание семьи художника), «Боярышня» (1886, НГХМ, инв. Ж-1296), «Боярыня в фиолетовой шубке» (1886, ГТГ, инв. 6046), «Голова боярышни» (1886, Музей-усадьба Ярошенко, инв. Ж-300) и «Женские головные уборы XVII века» (1886, КГХМ, инв. Ж-211)[150].
Княгиня Урусова

Княгиня Евдокия Прокофьевна Урусова, сестра и сподвижница Морозовой, изображена идущей рядом с санями, на которых везут боярыню. Она одета в тёмно-красную бархатную шубу, подбитую светлым мехом. Из-под шубы виднеется расшитый цветными узорами сапожок, облепленный снегом. На её голове — отороченная мехом шапочка из тёмно-синего бархата, по которому жемчугом вышиты акантовые листья. Под шапкой — большой, покрывающий плечи белый платок с цветным узором из васильков, роз и колосьев. Руки Урусовой молитвенно сжаты. Следуя за санями, она ничего не замечает вокруг себя, кроме своей сестры, к которой обращено её бледное лицо. Урусова смотрит на Морозову «как на святую, за которой готова пойти на муки и смерть». По словам Владимира Кеменова, «мягкая натура Урусовой нуждалась в примере, чтобы совершить подвиг», и такой пример ей дала её страстная и фанатическая сестра[98].
При работе над образом Урусовой Суриков использовал сведения, приведённые в публикациях Ивана Забелина и Николая Тихонравова. В частности, было известно, что у неё отобрали цветной платок и взамен дали ей испод (подкладку)[151]. При этом Суриков не следовал всем подробностям буквально, а в некоторых деталях отошёл от биографических сведений, представленных в литературе. В частности, в окончательной версии полотна был изображён не чисто белый, а цветной платок. Кроме того, маловероятно, что Урусовой было позволено идти рядом с санями. Это обстоятельство дало повод историку и искусствоведу Виктору Никольскому отрицать, что на картине изображена именно княгиня Урусова. В монографии, изданной в 1934 году, он писал: «Да, Урусова не могла идти рядом с дровнями Морозовой, но вместо неё легко могла идти другая женщина, другая боярыня, имя которой тоже сплетается с историей Морозовой». По предположению Никольского, такой женщиной могла быть двоюродная сестра Морозовой Ртищева, которая «очень любила боярыню и пыталась отвлечь её от раскола», поэтому у неё «могло родиться желание проводить сестру на последний допрос»[151][152]. Отмечая неубедительность подобных аргументов, Владимир Кеменов писал, что «стоит лишь взглянуть на образ Урусовой в картине, чтобы стало ясно, что так переживать, так смотреть и так идти за санями может убеждённая единомышленница Морозовой, а не женщина, которая хотела „отвлечь Морозову от раскола“»[151].
При работе над фигурой княгини Урусовой Суриков создал этюды «Старуха в белом платке» (1885, ГТГ, инв. 5856) и «Княгиня Урусова» (1885—1886, ГТГ, инв. 778). Кроме того, им был написан этюд «Шапочка княгини Урусовой» (1885—1886, ГТГ, инв. 26785)[153]. Искусствовед Алла Лужецкая отмечала поразительную технику исполнения этого этюда, выразившуюся в фактурном рельефе «как бы вылепленной» вышивки, который «контрастирует с тонким ровным слоем краски тёмного сине-зелёного бархатного фона»[154].
Боярыня Морозова

Первые сведения о Феодосии Прокофьевне Морозовой Василий Суриков получил в детстве, когда он учился в Красноярском уездном училище. В этот период он жил в доме у своей крёстной Ольги Матвеевны Дурандиной, которая по вечерам, при свечах, рассказывала будущему художнику увлекательные истории из жизни боярыни[155]. Впоследствии Суриков так описывал своё живописное впечатление, которое ассоциировалось у него с героиней будущего полотна: «…А то раз ворону на снегу увидал. Сидит ворона на снегу и крыло одно отставила, чёрным пятном на снегу сидит. Так вот этого пятна я много лет забыть не мог. Потом боярыню Морозову написал»[155][156]. Николай Машковцев уточнял, что ворона, сидящая на снегу, дала Сурикову толчок не к самому сюжету, «с детства жившему в душе художника», а к тональному решению этого сюжета[157]. Прототипом Морозовой была тётка художника Авдотья Васильевна Торгошина, муж которой, Степан Фёдорович, позировал Сурикову для образа чернобородого стрельца в картине «Утро стрелецкой казни». По словам Сурикова, Авдотья Васильевна напоминала ему Настасью Филипповну — героиню романа Фёдора Достоевского «Идиот»[158][38].
В процессе работы над композиционными эскизами одной из основных задач Сурикова было нахождение правильного соотношения между основным персонажем — боярыней Морозовой — и толпой, заполнившей улицу. По словам Владимира Кеменова, художнику было необходимо «создать такую композиционную структуру, которая бы позволила раскрыть тесную связь Морозовой и с каждым образом, и с толпой народа в целом и в то же время выделяла бы фигуру Морозовой как образ всей композиции». В первоначальном эскизе 1881 года (ГТГ, инв. 6085) боярыня была изображена сидящей на стуле, закреплённом на санях. Несмотря на более точное соответствие историческому описанию, такой вариант не удовлетворил художника, и в более поздних эскизах и этюдах Морозова была «посажена» на пол саней[159]. Известны по крайней мере три живописных этюда для боярыни Морозовой в санях: «Боярыня Морозова, сидящая в запряжённых санях» (1884, частное собрание), «Боярыня Морозова в санях» (1884, ЛатвНХМ, Ж-379) и «Боярыня Морозова в санях» (1886, ГТГ, инв. 11179)[160].
В окончательной версии полотна боярыня Морозова одета в чёрную бархатную шубу, по борту которой идёт тонкая красная оторочка. Бархатистая структура одежды Морозовой подчёркивается желтоватой колючей соломой, устилающей пол саней. На тёмном фоне выделяются своей белизной лицо боярыни и её высоко поднятая рука, пальцы которой сложены в старообрядческом двуперстии. По словам Николая Машковцева, «во всей картине нет ни одного подобного пятна чёрного цвета, так же как и среди лиц толпы нет ни одного такого светлого лица, как лицо Морозовой», в результате чего её фигура «является могущественным цветовым центром картины, совмещающим в себе самые крайние светлые и тёмные краски, применённые художником на полотне»[20]. Края её широкой одежды, свешивающиеся с саней, волочатся по снегу словно воронье крыло, а движение её рук подчёркнуто блеском металлической цепи[161]. Контрастное сочетание чёрного цвета с красной одеждой княгини Урусовой и белым снегом вносит в произведение трагическую ноту[162].
Над детальным изображением лица боярыни Морозовой Суриков начал работать в 1886 году, последовательно создав три живописных этюда. На первом из них, «Голова женщины в чёрном платке» (1886, ГРМ, инв. Ж-4232), изображена обыкновенная русская женщина, чёрный платок которой по-монашески заколот у подбородка. Во взгляде женщины, широко раскрытые глаза которой обращены к небу, читается выражение наивной и простодушной веры[163]. На втором этюде — «Голова боярыни Морозовой» (1886, ГТГ, инв. 777) — изображена женщина со светло-серыми глазами и родинкой на щеке. На её голове — чёрный треух с меховой опушкой, поверх которого накинут чёрный платок[164]. По-видимому, эти два этюда не удовлетворили художника, и он продолжал свои поиски, пытаясь найти более страстное и одухотворённое лицо. Сам Суриков так описывал эти поиски: «И как ни напишу её лицо, всё толпа бьёт. Очень трудно её лицо было найти. Ведь столько времени я его искал. Всё лицо мелко было. В толпе терялось»[165][164]. Третий этюд — «Голова боярыни Морозовой» (1886, ГТГ, инв. Ж-352) — был написан на старообрядческом кладбище в подмосковном селе Преображенском. Моделью для этого этюда послужила начётчица с Урала Анастасия Михайловна, которую Сурикову порекомендовала его знакомая старушка-старообрядка Степанида Варфоломеевна. По словам Галины Васильевой-Шляпиной, в этом этюде «на основе реальности был создан поэтический образ исключительной силы»[166]. По словам самого художника, «и как вставил её в картину — она всех победила»[165][167].
Мальчики
На картине изображено несколько мальчишек — «непременных наблюдателей уличных происшествий»[168]. Они ничем не связаны с боярыней Морозовой и ничего не знают о причинах её непокорного поведения. Изначальное чувство, объединяющее их всех, — элементарное детское любопытство. Однако постепенно, по мере того как сани с боярыней проезжают мимо, у них начинают проявляться и другие чувства по отношению к Морозовой[145]. Мальчик в розовой рубахе, стоящий перед женщиной в золотном оплечье, ещё не видел лицо боярыни. Он полон «беззлобного, чисто детского веселья, основанного на полном неведении». Задумавшийся подросток, стоящий в толпе слева, выглядит более серьёзно[169]. Описывая его чувства, писатель Всеволод Гаршин отмечал: «Трудно понять ему, в чём именно дело, но он чувствует, что оно идёт о правде и неправде»[170][171]. Другой мальчик идёт возле саней, перед княгиней Урусовой. Он одет в кафтанчик, расшитый разноцветными цветами и серебристыми листиками. Его лицо повёрнуто к Морозовой, на которую он смотрит с недоумением и любопытством[172]. Ещё один мальчик, лица которого не видно, — бежит по глубокому снегу слева от саней, на ходу утирая нос рукавом[169]. Два мальчика — один постарше, а другой помладше — взобрались на выступ церкви и наблюдают за происходящим оттуда, схватившись за церковные ставни[173].
В процессе работы над образами мальчишек Суриков создал ряд этюдов, среди которых «Задумавшийся подросток» (1885, ГТГ, инв. Ж-437), «Мальчик на снегу» (1880-е, МУС, инв. Ж-8), «Мальчик бегущий, со спины» (1885—1886, ГТГ, инв. Ж-417), «Мальчик, идущий впереди княгини Урусовой» (1885—1886, ГТГ, инв. Ж-585) и «Голова мальчика, ухватившегося за скобу церковных ставен» (1886, ГТГ, инв. Ж-543)[174].
Другие персонажи
У самого правого края полотна, правее странника, изображено «бронзовое лицо бритоголового татарина в тёмной тюбетейке». То, что он помещён на самом краю, отражает тот факт, что разлад русской нации затрагивает его меньше, чем всех остальных людей, собравшихся на улице. Он является сторонним наблюдателем, вышедшим на улицу из любопытства, вызванного шумом толпы. Несмотря на то, что он плохо понимает причины религиозных распрей, под влиянием общего настроения на его загорелом лице мелькнуло чувство сострадания к Морозовой. По мнению Владимира Кеменова, Сурикову удалось хорошо схватить тип татарина, характерный для Московской Руси XVII века. По всей видимости, «он врос в быт Москвы и стал привычной фигурой базарных площадей как старьёвщик или мелкий торговец вразнос». Он скромно стоит позади толпы и не пытается протолкнуться вперёд[104]. По словам Кеменова, «образ этот, как ни мимоходом он дан, служит намёком, напоминанием, вызывающим важные исторические ассоциации»[175]. Для работы над образом татарина Сурикову пригодился этюд — «Сидящий нищий» (1883, холст, масло, 36 × 29,5 см, НГП, инв. O-5693), написанный с Архипа Цветкова (изначально предполагалось, что он будет использован для образа юродивого)[176][177].
Между боярышней со скрещёнными руками и старухой в узорном платке видно лицо монаха, который с осторожностью наблюдает за тем, что происходит на улице. На его голове — чёрный клобук, подбитый мехом и покрытый чёрным крепом с красным кантом. По описанию Кеменова, Суриков в образе монаха создал «типичный образ богослова, церковного начётчика, искушённого в догматических спорах, расчётливого и скрытного в выражении своих чувств и мыслей». Его внешность — большие чёрные глаза, смуглая румяная кожа, узкий овал лица, нос с горбинкой, крупные губы, чёрные борода и усы — скорее характерна для южанина. По мнению Кеменова, это мог быть или один из греческих богословов, или представитель киевских или полоцких «монахов-грекофилов»[178].

Слева от старухи в узорном платке стоит седобородый старик, чьё лицо частично загорожено древком стрелецкого бердыша. Он одет в шубу с золотыми кистями и высоким стоячим воротником — козырем. Владимир Кеменов писал, что «весь патриархальный облик старика, его угрюмый взгляд ясно показывают, на чьей стороне его сочувствие». За спиной старика видно бородатое румяное лицо уличного зеваки, главное желание которого — протиснуться через толпу поближе к Морозовой и посмотреть на неё. Напряжённые складки на его лбу показывают, что «пламенные слова и призывный жест боярыни произвели впечатление даже на его примитивную натуру»[98]. Для образа седобородого старика сохранился этюд «Портрет старика», ранее находившийся в частном собрании[179], а ныне принадлежащий музею «Новый Иерусалим» (инв. ЖД-194)[180].
Рядом с княгиней Урусовой, отделяя её от толпы, идёт стрелец с бердышем, одетый в красный кафтан и остроконечную шапку. Наклонные линии фигур стрельца и Урусовой выделяются на фоне построенной на вертикалях правой части толпы, подчёркивая движение саней, вровень с которыми они идут[98]. В процессе работы над образом стрельца Суриков создал этюды «Стрелец в красном кафтане, идущий рядом с княгиней Урусовой» (1885, ГТГ, инв. Ж-553)[181][182], «Стрелец в красном кафтане» (1885, ГТГ, инв. Ж-1209)[183] и «Плечо стрельца в красном кафтане» (акварель, 1880-е, МУС, инв. Г-27)[184].
Левее княгини Урусовой, между ней и монашенкой с чётками, изображён бородатый мужчина, который, по-видимому, является не городским жителем, а крестьянином. Он одет в простой крестьянский тулуп, на его голове — шапка с вишнёвым верхом и потёртым меховым околышем. Этот крестьянин — практически единственный из всех персонажей, который смотрит не на Морозову и не на кого-то в толпе, а прямо на зрителя. По выражению его лица можно понять, что он находится в сомнениях по отношению к происходящему. Хмурый взгляд глубоко посаженных глаз крестьянина показывает, что его терзают противоречия и колебания[172]. По словам Кеменова, образ сомневающегося крестьянина «противоположен пафосу фанатической убеждённости Морозовой, хотя в нём не ощущается никакой враждебности по отношению к раскольнице»[185].
Справа от головы боярыни Морозовой находится обращённое в её сторону в профиль лицо возницы. Сидя впереди саней, спиной к Морозовой, он держит в руках вожжи, замахиваясь ими на лошадь. Возница относится к персонажам, недоброжелательным и враждебным по отношению к боярыне. Его взгляд устремлён к левой части толпы, где он увидел своих единомышленников — смеющихся священника и купца. Образ возницы является одним из самых отталкивающих в картине[143].
Этюды для других персонажей
Стрелец в красном кафтане, идущий рядом с княгиней Урусовой (1885, ГТГ, инв. Ж-553)
Стрелец в красном кафтане (1885, ГТГ, инв. Ж-1209)
Портрет старика (Новый Иерусалим, инв. ЖД-194)
Сидящий нищий (1883, НГП, инв. O-5693)
Remove ads
Эскизы и этюды
Суммиров вкратце
Перспектива
Эскизы
В собрании Государственной Третьяковской галереи хранится первоначальный эскиз картины «Боярыня Морозова» (холст, масло, 48,7 × 72 см, инв. 6085), созданный Суриковым в 1881 году. Этот эскиз ранее находился в собрании И. Е. Цветкова. Он поступил в Третьяковскую галерею в 1926 году из Цветковской галереи[186][187][188].
В собрании Иркутского областного художественного музея имени В. П. Сукачёва находится эскиз правой части картины «Боярыня Морозова» (холст на картоне, масло, 66 × 42,6 см, инв. Ж-1486)[189][190], написанный в коричневой гамме[191]. Он поступил в музей в 1969 году в качестве дара от музейного работника и коллекционера Ф. Е. Вишневского[192].
При работе над картиной «Боярыня Морозова» Суриков создал ряд одноимённых графических эскизов, в частности:
- 1881—1885, бумага, графитный карандаш, 11,2 × 16,4 см, ГТГ, инв. Р-1391, лист 21-об.[193],
- 1881—1885, бумага, графитный карандаш, 11,2 × 16,4 см, ГТГ, инв. Р-1391, лист 16 (эскиз, разграфлённый на квадраты)[194],
- 1883—1885, бумага, графитный карандаш, 24,6 × 33,5 см, ГТГ, инв. 26555[195],
- 1883—1884, бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш, 22,7 × 45 см, ГРМ, инв. Р-8370[196][197][198],
- 1883—1884, бумага, акварель, графитный карандаш, 10,2 × 18 см, ГРМ, инв. Р-13384[199][200][201],
- 1885, бумага, акварель, 17,2 × 32,5 см, ГТГ, инв. 7471[202],
- 1885, бумага, акварель, графитный карандаш, 21,6 × 42,6 см, ГТГ, инв. 11443[203].
Живописные этюды
Третьяковская галерея
В Третьяковской галерее хранятся 35 этюдов для картины «Боярыня Морозова», выполненные маслом на холсте[K 2]. В соответствующем томе каталога Третьяковской галереи (том 4, книга 2), изданном в 2006 году, они имеют номера с 743 по 777[204].
Четыре этюда поступили в 1910 году по завещанию М. А. Морозова: «Голова юродивого» (1885, 49 × 36 см, инв. 779)[205][206][207], «Княгиня Урусова» (1885—1886, 68,7 × 58 см, инв. 778)[208][209][210], «Голова смеющегося священника» (1886, 34,5 × 27,5 см, инв. 780)[211][212][213] и «Голова боярыни Морозовой» (1886, 48,2 × 35,7 см, инв. 777)[214][215][216][217]. Этюд «Странник» (1885, 45 × 33 см, инв. 6084), ранее находившийся в собрании И. Е. Цветкова, поступил в 1926 году из Цветковской галереи[218][219][220]. Три этюда, ранее хранившиеся в собрании И. С. Остроухова, поступили в 1929 году из Музея Остроухова: «Монашенка с поднятыми к лицу руками» (1884—1885, 34,5 × 26,5 см, инв. 11180)[221][222][223], «Боярышня со скрещёнными на груди руками» (1885—1886, 46 × 35,5 см, инв. 11181)[224][225] и «Боярыня Морозова в санях» (1886, холст, масло, 76,2 × 103 см, инв. 11179)[226][227][228][229].

14 этюдов поступили из собрания семьи художника (от его наследников): «Сани и стоящая рядом женская фигура в чёрном» (1882—1883, 25 × 35 см, инв. 25347, поступил в 1940 году)[230][231], «Зубовский бульвар зимой» (1882—1883, 42 × 30 см, инв. 25350, поступил в 1940 году)[232][233], «Зима в Москве» (1884—1885, 26 × 34,7 см, инв. 25349, поступил в 1940 году)[234][47][235], «Рука боярыни Морозовой» (1886, 28,3 × 23,1 см, инв. 25346, поступил в 1940 году)[236][237][238], «Шапочка княгини Урусовой» (1885—1886, 18,8 × 26 см, инв. 26785, поступил в 1948 году)[239][240][241], «Голова боярыни Морозовой» (1886, 32,5 × 26,8 см, инв. Ж-352, поступил в 1960 году)[242][243][244], «Голова юродивого» (1885, 44 × 36 см, инв. Ж-381, поступил в 1965 году)[245][246], «Мальчик бегущий, со спины» (1885—1886, 70 × 47 см, инв. Ж-417, поступил в 1966 году)[247][248][249], «Задумавшийся подросток» (1885, 34,5 × 25 см, инв. Ж-437, поступил в 1967 году)[250][251], «Посох» (1885, 53 × 27 см, инв. Ж-554, поступил в 1968 году)[252][253], «Стрелец в красном кафтане, идущий рядом с княгиней Урусовой» (1885, 59 × 47 см, инв. Ж-553, поступил в 1968 году)[181][182], «Слепой» (1884, 30,3 × 43,8 см, инв. Ж-957, поступил в 1978 году)[254][255], «Монашенка» (1884, 38 × 35 см, инв. Ж-1208, поступил от М. П. Кончаловского в 1989 году)[256][257][258] и «Стрелец в красном кафтане» (1885, 59,5 × 47 см, инв. Ж-1209, поступил от М. П. Кончаловского в 1989 году)[183].
Два этюда, находившиеся ранее в собрании П. И. Харитоненко и В. А. Харитоненко, поступили в 1925 году из Наркоминдела СССР: «Старуха в белом платке» (этюд для фигуры княгини Урусовой, 1885, 34 × 27,5 см, инв. 5856)[259][260] и «Боярышня в синей шубке» (1887, 84,4 × 55,5 см, инв. 5832)[261][262][263][264]. Этюд «Боярыня в фиолетовой шубке» (1886, 62 × 35,7 см, инв. 6046) поступил в 1925 году из собрания Я. И. Ачаркина[265][266][267]. Этюд «Рука странника с посохом» (1885, 25 × 34,7 см, инв. 25580) поступил в 1927 году от Е. С. Карензиной[268][269]. Этюд «Старуха в узорном платке» (1886, 43,7 × 36 см, инв. 10320)[270], ранее находившийся в собрании П. А. Лезина, был передан в 1928 году из 5-го Пролетарского музея[271]. Этюд «Монашенка» (1884, 24,5 × 20,5 см, инв. 10454) поступил в 1929 году от В. М. Новожилова[272][273]. Два этюда поступили в 1940 году от К. В. Игнатьевой: «Голова старика, стоящего в толпе справа» (1884, 40 × 31 см, инв. 25456)[274][275][276] и «Странник» (1886, 32,5 × 26 см, инв. 25530)[277][278]. Ещё два этюда поступили в 1968 году из собрания Т. Н. Волковой и П. А. Лезина: «Голова крестьянки» (1886, 33 × 26 см, инв. Ж-542)[279][280] и «Голова мальчика, ухватившегося за скобу церковных ставен» (1886, 24,4 × 20,2 см, инв. Ж-543)[281][282]. Этюд «Мальчик, идущий впереди княгини Урусовой» (1885—1886, 43 × 31 см, инв. Ж-585) поступил в 1970 году из собрания Н. С. Голованова[283][284][285]. Этюд «Смеющийся купец» (1886, 33,1 × 28 см, инв. Ж-677), ранее находившийся в собрании С. И. Щукина, поступил в 1973 году от С. А. Белица[286][287][288]. Этюд «Странник» (1886, 30 × 25,3 см, инв. Ж-1204) поступил в 1989 году от В. И. Коненкова[289].
Другие музеи и частные собрания

В собрании Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге хранятся два этюда для картины «Боярыня Морозова» — «Нищий, стоящий на коленях» (между 1884 и 1886, холст, масло, 50,5 × 41,5 см, инв. Ж-4246)[290][291][292][117][293] и «Голова женщины в чёрном платке» (этюд для боярыни Морозовой, 1886, холст, масло, 48 × 36 см, инв. Ж-4232)[294][295][296][297][298][299]. Ещё два этюда находятся в собрании Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых — «Юродивый» (1885, холст, масло, 68,4 × 55,4 см, инв. Ж-326)[300][301][302] и «Зима. Крыши домов» (1887, холст, масло, 26,5 × 34 см, инв. Ж-325)[303][304].
По одному этюду хранится в собраниях Калужского музея изобразительных искусств — «Голова монахини» (1884, холст, масло, 37 × 30 см, инв. Ж-102)[305][306][307], Рязанского государственного областного художественного музея имени И. П. Пожалостина — «Боярышня» (1886, холст, масло, 49,3 × 36,5 см, инв. Ж-592)[308][309], Пермской государственной художественной галереи — «Голова монашенки» (холст, масло, 24 × 19,6 см, инв. Ж-304)[310][311][312], Нижегородского государственного художественного музея — «Боярышня» (1886, холст, масло, 26,3 × 24,8 см, инв. Ж-1296)[313][314], Красноярского государственного художественного музея имени В. И. Сурикова — «Женские головные уборы XVII века» (1886, холст, масло, карандаш, тушь, 32,5 × 15 см, инв. Ж-211)[315][316][317], Доме-музее В. И. Сурикова в Красноярске — «Фигура мальчика на снегу», или «Мальчик на снегу» (1880-е, холст, масло, 44 × 55 см, инв. Ж-8)[318][319][320], музее «Новый Иерусалим» — «Портрет старика» (холст, масло, 37 × 31,6 см, инв. ЖД-194)[180] и Музее-усадьбе Н. А. Ярошенко (Кисловодск) — «Голова боярышни» (1886, холст, масло, 24 × 18 см, инв. Ж-300)[321].

Несколько этюдов находятся в музейных собраниях за пределами России. Два этюда хранятся в собрании Национального художественного музея Республики Беларусь — «Смеющийся священник» (1885, холст, масло, 72 × 42 см, инв. РЖ-148)[322][323] и «Старуха в узорном платке» (между 1881 и 1886, холст, масло, 82 × 40 см, инв. РЖ-149)[324][325]. Один этюд находится в собрании Латвийского национального художественного музея — «Боярыня Морозова в санях» (1884, холст, масло, 78 × 108 см, инв. Ж-379)[326][327]. Ещё один этюд хранится в Национальной галерее в Праге — «Сидящий нищий» (1883, холст, масло, 36 × 29,5 см, инв. O-5693)[328][329].
Ряд этюдов находится в частных собраниях: «Лошадка» (1884, холст, масло, 27 × 37 см, собрание С. А. Белица, Париж)[330], «Боярыня Морозова, сидящая в запряжённых санях» (1884, холст, масло, 44,5 × 67,5 см, частное собрание)[331], «Голова девушки в платке» (1885, холст, масло, 25 × 19,6 см, собрание семьи художника)[332][333][334], «Голова кланяющейся боярышни» (или «Голова склонившейся боярышни в жёлтом платке» 1885, холст, масло, 41,6 × 36 см, собрание семьи художника)[335][336], «Голова боярышни в фиолетовой душегрее» (1885, холст, масло, 28 × 22 см, собрание семьи художника)[337] и «Голова смеющегося старика» (1885—1886, холст, масло, 42 × 32 см, собрание семьи Б. Н. Маньковского, Киев)[338]. У этюда «Голова монашенки» (1884, холст, масло), ранее находившегося в собрании В. А. Шмаровина (Москва), нынешнее местонахождение неизвестно[339].
Графические этюды

При работе над «Боярыней Морозовой» Суриков создал большое количество графических этюдов и набросков. Часть их входит в состав альбома 1881—1885 годов, приобретённого в 1971 году Государственной Третьяковской галереей у семьи художника (инв. Р-1391). Альбом содержит 32 нумерованных листа, из которых три отсутствуют[340].
Кроме того, в Третьяковской галерее хранятся и другие графические этюды, в частности «Женские фигуры, странник, юродивый» (1884, бумага, графитный карандаш, 24 × 27,3 см, инв. 26556)[341], «Странник» (1884, бумага, итальянский карандаш, 41,4 × 33,2 см, инв. 7470)[342][343], «Зубовский бульвар зимой» (1880—1882, бумага, акварель, графитный карандаш, 11,2 × 16,5 см, инв. Р-1388)[344][345], «Возница» (1883—1885, бумага, акварель, 24,5 × 33,3 см, инв. 27271)[346], «Юродивый, сидящий на земле» (1885, бумага, графитный карандаш, 24,6 × 33,5 см, инв. 26554)[347] и «Странник» (1886, бумага, акварель, 34,2 × 24,5 см, инв. 15793)[348][349].
В собрании Государственного Русского музея хранится рисунок «Голова мужчины в скуфье» (около 1884, бумага, графитный карандаш, растушка, 32 × 23,3 см, ГРМ, инв. Р-13383)[350][121], который ранее был известен под названиями «Странник»[351] и «Голова странника»[120]. В собрании Тверской областной картинной галереи находится рисунок «Юродивый» (1886, бумага, графитный карандаш, 40,5 × 34 см, ТОКГ, инв. Г-597)[352][353]. В Доме-музея В. И. Сурикова в Красноярске хранится этюд «Плечо стрельца в красном кафтане» (1880-е, бумага, акварель, 33 × 24 см, инв. Г-27)[184].
Remove ads
Отзывы и критика
Суммиров вкратце
Перспектива
XIX век
Художественный критик Владимир Стасов в опубликованной в 1887 году статье писал, что Суриков, представивший на 15-й передвижной выставке полотно «Боярыня Морозова», сделал «громадный шаг вперёд», создав картину, которая «есть первая из всех наших картин на сюжеты русской истории». По словам критика, «выше и дальше этой картины и наше искусство, то, которое берёт задачей изображение старой русской истории, не ходило ещё». Стасов признавал, что при первом взгляде на «Боярыню Морозову» он был «поражён до глубины души», настолько впечатлили его «сила правды, сила историчности, которыми дышит новая картина Сурикова». По мнению критика, художник движется в правильном направлении, он идёт по «верной и глубоко правдивой дороге» — «русская история, русский XVII век так и живут, так и дышат у него в картине»[16]. В то же время Стасов отмечал, что у нового произведения Сурикова есть и недостатки, наиболее важным из которых он считал «отсутствие мужественных, твёрдых характеров во всей этой толпе» — то, что ни у кого из тех, кто сочувствует Морозовой, не блеснуло в глазах «чувство злобы, мести, отчаяния»[354].

В статье «Заметки о художественных выставках», опубликованной в журнале «Северный вестник» (1887, № 3), писатель и критик Всеволод Гаршин подробно проанализировал два «капитальнейших произведения» проходившей в то время выставки передвижников — картины «Христос и грешница» Поленова и «Боярыня Морозова» Сурикова[355][356]. Обсуждая суриковское полотно, он предался размышлениям, почему в гнилой землянке предпочла закончить свою жизнь «вельможная жена, владетельница 8000 душ крестьян и имения, оцениваемого на наши деньги в несколько миллионов». Отвергнув разговоры академистов о «неправильностях в положении рук» и огрехах рисунка, Гаршин расценил «Боярыню Морозову» как бесспорный художественный триумф реалистической манеры Сурикова: «Измождённое долгим постом, „метаниями“ и душевными волнениями последних дней лицо, глубоко страстное, отдавшееся одной бесценной мечте, носится перед глазами зрителя, когда он уже давно отошёл от картины. <…> Грубые московские люди, в шубах, телогреях, торлопах, неуклюжих сапогах и шапках, стоят перед вами как живые. Такого изображения нашей старой, допетровской толпы в русской школе ещё не было. Кажется, вы стоите среди этих людей и чувствуете их дыхание»[357][358].
В журнале «Живописное обозрение» (№ 11 за 1887 год) литературовед и писатель Пётр Полевой писал, что картина «Боярыня Морозова» производит впечатление «хорошо задуманного и вполне законченного художественного произведения»[359][360], а в толпе, изображённой художником, «очень много жизни, экспрессии, движения, напряжённого, сосредоточенного внимания»[361][360]. При этом, по мнению Полевого, в произведении Сурикова есть ряд недочётов, к которым он относил «некоторый недостаток перспективы в расположении толпы», а также «бледность и вялость красок», негативно влияющую на общее впечатление от картины[362]. Тем не менее, по словам Полевого, полотно «имеет большие и весьма важные достоинства, обнаруживающие в художнике большой и серьёзный талант, направленный к глубокому и всестороннему изучению прошлого»[361][360].
Писатель Владимир Короленко, как и Гаршин, посвятил свою статью сопоставлению «Христа и грешницы» Поленова и «Боярыни Морозовой» Сурикова, представленных на 15-й передвижной выставке. Отмечая, что обе картины велики и по размерам, и по сюжетам, Короленко писал, что при переходе от одной из них к другой «зритель испытывает ощущение эстетического контраста»[363], которое, однако, никоим образом не означает, что кто-то из художников «взял фальшивый аккорд» — в конце концов приходишь к выводу, что «манеры художников соответствуют их темам и не подлежат сравнению»[364]. В то время как основу поленовской картины составляет «ясная, полная, замечательно уравновешенная, стало быть гармоническая идея», содержание суриковского полотна, по мнению Короленко, — «диссонанс, противоречие между возвышенным могучим порывом чувства и мелкой, ничтожной и тёмной идеей»[365].
XX и XXI века



Художник и критик Александр Бенуа, один из основателей и видных деятелей объединения «Мир искусства», придерживался высокого мнения о художественных достоинствах исторических полотен Сурикова, отмечая отход от академических композиционных решений и импрессионистическое многоголосье красочных фактур[369]. В своей книге «История русской живописи в XIX веке», первое издание которой вышло в свет в 1902 году, Бенуа писал, что своеобразное достоинство «Боярыни Морозовой» состоит и в скученности персонажей, и в отсутствии перспективной глубины, которые, с его точки зрения, призваны подчеркнуть «типичную и в данном случае символичную тесноту московских улиц», а также «несколько провинциальный характер всей сцены»[370]. Вслед за хулителями-академистами Бенуа сравнивал суриковское многоголосье с ковром, но не видел в этом ничего предосудительного, считая, что «действительно это удивительное по своей гармонии пёстрых и ярких красок произведение достойно назваться прекрасным ковром уже по самому своему тону, уже по самой своей красочной музыке, переносящей в древнюю, ещё самобытно-прекрасную Русь»[371].
В книге, вышедшей в 1955 году, искусствовед Дмитрий Сарабьянов писал, что картина «Боярыня Морозова» — «центральное произведение творчества Сурикова, принесшее наибольшую славу художнику»[17] и явившееся «самым ярким, самым поэтическим выражением его исканий»[18]. По словам Сарабьянова, это полотно завершает собой период суриковского творчества 1880-х годов, включающий в себя такие произведения, как «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове» и «Острог», связанные мотивом ссылки, заключения, пытки и казни[372]. Сарабьянов отмечал, что основные идеи «Боярыни Морозовой» «нашли монументальное воплощение в форме „хоровой“ многофигурной композиции», создание которой было «одним из наиболее ярких свидетельств стремления русских художников к монументальному решению народной темы»[373].
Искусствовед Николай Машковцев писал, что в «Боярыне Морозовой» «живопись Сурикова достигает своей вершины»[19]. Он отмечал, что в этом полотне художнику удалось достичь «огромной силы выражения положительно во всех действующих лицах» — здесь нет «безликих статистов», каждый характер обладает высокой степенью законченности, занимает определённое ему место и несёт «окончательный внутренний смысл», при этом сохраняя свою индивидуальность и народные черты. В то же время, по словам Машковцева, практически каждое из действующих лиц картины «отражённо несёт на себе силу её центрального образа» — Феодосии Морозовой, на которую смотрят с благоговением и за которой готовы следовать по мере сил[20].
По мнению искусствоведа Михаила Алпатова, при создании полотна «Боярыня Морозова» Суриков проявил себя не только как психолог, историк, колорист и мастер композиции, но и в первую очередь как настоящий художник, поскольку «он достиг в картине самого главного путём художественного познания, или, как говорят, художественного ви́дения и художественного выражения»[374]. Алпатов отмечал, что «ядром замысла» Сурикова в этом произведении является цвет, который, помимо прочего, даёт психологическую характеристику каждого действующего лица. По словам Алпатова, «красочные пятна, вплетаясь в живописную ткань картины, <…> превращают трагедию, всенародный плач в дивное зрелище красочной гармонии»[375].
Искусствовед Нонна Яковлева отмечала большое количество аналогий между «Боярыней Морозовой» и законченной за три десятилетия до неё картиной Александра Ива́нова «Явление Христа народу», как в выборе сюжета и композиции, так и в изображении конкретных действующих лиц[376]. По словам Яковлевой, и у Иванова, и у Сурикова композиция картины «есть носительница основного смысла образа»[377], при этом в обоих произведениях толпа характеризуется высокой степенью «конкретности отдельных персонажей», а также «разнообразием характеров и их проявлений, социальных типов и человеческих темпераментов». В то же время, если говорить об отдельных людях, составляющих толпу, то у Иванова это общечеловеческие типы, а у Сурикова — социально-исторически конкретные характеры, «русский человек на переломе истории»[378].
По словам искусствоведа Галины Васильевой-Шляпиной, картина «Боярыня Морозова» «знаменует высший взлёт суриковского творчества». Отмечая высокую степень глубины и многогранности жизненного содержания, Васильева-Шляпина писала, что с этой точки зрения полотно является «самым значительным созданием русского исторического жанра»[379]. Она также отмечала, что при написании «Боярыни Морозовой» Сурикову в значительной мере помог опыт, полученный во время его заграничной поездки — картина «вобрала в себя богатство колорита итальянских живописцев эпохи Возрождения», с работами которых художник познакомился во время своего путешествия по Европе в 1883—1884 годах[380].
Remove ads
Комментарии
- Для датировки событий, происходивших в Российской империи, используется юлианский календарь («старый стиль»).
- Большинство изображений этюдов для отдельных персонажей находится в разделе «Действующие лица».
Примечания
Литература
Ссылки
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads




















































































